Юрий Диков
Они очень важны для него – о том, как в три с половиной года он начал быть, в час, когда любимый дядя прощался с матерью, уходя на войну.
Как чувство своего бытия и одиночества проросло в нем в новогодние дни 1942 года, когда немцы сожгли село Шебаршино и погнали старых и малых неведомо куда. Сейчас, на восемьдесят седьмом году жизни, он рассказывает эту историю по памяти, голосом, не видя сегодняшний мир вокруг себя,
но сквозь слезы видя тогда и тех.
Это был первый год совместной жизни в браке с Ольгой Коган, и записи начинаются обращением к той, рядом с которой он хотел заново понять себя – от самого начала
Юрий Павлович Диков (род. 1937) — доктор геолого-минералогических наук. Шестидесятник из круга Ильи Габая, Юлия Кима, Анатолия Якобсона. Дружил с Арсением Тарковским, Давидом Самойловым, Исааком Крамовым и Еленой Ржевской. После смерти Исаака Крамова вошел в его семью, став мужем его приемной дочери Ольги Коган. Юрий Диков участвовал в сохранении и публикации наследия Крамова, помогал Давиду Самойлову в осуществлении некоторых замыслов, в том числе пьесы «Воскресение» (о возвращении Сталина к жизни, если это можно назвать жизнью), вместе с Владимиром Кормером затеял писать биографию Чернышевского и осуществил этот замысел спустя годы после смерти Кормера в форме романа-эссе «Учитель истории». В столе-секретере Юрия Дикова лежат записи 1970–1980-х годов, насущная часть опыта его поколения и дружеского круга.
Олик, солнышко!
В дни, что держат меня вдали, главным содержанием жизни становится непрерывный разговор с тобой, разговор обо всем на свете, значит, о тебе и о том, что тебе важно и нужно.
И я тебе столько рассказываю, вспоминаю, объясняю, что становится боязным это потерять, затереть суетным ходом посторонней и избытой наружней жизни. Вот отсюда и пришло желание тебе писать, писать в эту тетрадь непрерывно ткущуюся нашу с тобой жизнь. Я буду тебе рассказывать своё начало и свои заблуждения, замешивать их в мысли о своем месте в жизни других, близких и случайных мне людей – через тебя, наверное, смогу понять, кто я такой на самом деле?
С тобой моя душа проснулась и взломала плоский и самодовольный круг добровольно ограниченной книжной жизни, где течение мысли казалось сильным и высоким просто по ничтожности тех низких и заболоченных берегов, в которые я был втиснут своей изначальной вторичностью по отношению к среде, понятиям и чувствам.
Теперь, когда ожившая душа разбередила ознобное мое существование, я, продрогший и ничтожный, все же увидел, как некрупно и водянисто шло мое пресловутое развитие до встречи с тобой. Ощущение жизни в пределах, ограниченных войной плебейских и аристократических претензий, устраивало меня своей неубойной противоречивостью, строго дозированной сложностью, допускающей сочувствие к себе самому за небрезгливость прорастания внутрь элитарных беспутств.
17.IX.1981 (ночь)
Но как все это начиналось? Первое воспоминание о себе самом, где оно? Для меня оно, во всяком случае, не в предметно увиденном мире, а в том чувстве, с которым я ощутил, что я есть и что меня это томит. Я иду к своим первым, независимым воспоминаниям, свободным от рассказов обо мне самом, что слышал я от бабки и матери, и хочу остановиться там, где сильнее всего обозначена истома самоосознания. Путь этот зыбок и прерывист, но любая остановка, выводя в памяти вещные детали моего присутствия на свете, сразу же будит одно и то же состояние, сильнее и непрерывнее всего владевшее мной в детстве – ни глубже, ни острее его я никакого другого чувства не помню: желанная печаль одиночества, так, пожалуй, оно называется.
19.IX
А было так, помню очень точно, и отсюда начинаю свою память: двое сидят напряженно и молча за огромным, как мне тогда казалось, кухонным столом. Я же на полу, а может быть, на какой-нибудь низкой скамеечке, во всяком случае, оба они видны мне снизу вверх – она со сникшими на коленях руками, а он, прикрытый вещевым мешком, поверх которого нависает козырек военной фуражки. За их головами в окне знакомый летний день, но мне в него не попасть: между улицей и мной стоит мука этих двоих, заставляющая меня съежиться и молчать. Потом он встает со словами: «Ну мать, пора», закидывает за спину мешок, хватает меня на руки, пересаживает на плечо, и, выведя на улицу, запевает «Так будьте здоровы, живите богато». А в меня вошла тоска, мне страшно слышать эту песню, страшно видеть сверху, как вцепилась та, кого он назвал «мать», в его рукав, и больше всего хочется обратно в только что разрушенное кухонное молчание.
20.IX
Позднее, уже когда мне было лет семь-восемь, по рассказам матери и бабушки я понял, что так уходил на фронт младший и любимый брат моей матери, танкист, герой Хасана и Халкин-Гола, холостяк, гуляка и широкая душа. Он проездом в Ульяновское танковое училище оказался в Шебаршине, близ Можайска, где я жил у бабушки с полугодовалого возраста. Опять же по рассказам, у меня с дядей (его звали Виктором) была большая любовь. Во все свои деревенские побывки он не спускал меня с плеча, двухлетнему (значит, после Халкин-Гола) подарил мне гармонь и под эту гармонь мы с ним обходили всех его деревенских приятелей. А в эту последнюю побывку его настигла война, и уже в июле он пропал без вести. Надо думать, просто сгорел в танке. Искали его и во время, и после войны, ждали из плена, копили годами случаи возвращения пропавших без вести, но он так и остался за пределами достоверной гибели, остался неутоленной надеждой на чудо, любимой семейной легендой, добрый, бескорыстный, без продолжения, без подробностей бытовых счетов.
А вот песня «Так будьте здоровы, живите богато» до сих пор меня режет по живому. Ее звук, впервые услышанный с дядькиного плеча, у меня предваряет и сливается с другой, от которой тоже покоя не будет до самого конца жизни (и это беспокойство, верно, уйдет только с исходом всего нашего поколения): «Вставая, страна огромная». Эту я услышал уже в Москве 42-го года, вьюжной, позднезимней, свету в которой для меня только и было, что в коптилке – стеклянном пузырьке с керосином, в который опускался фитиль, свободным концом упрятанный в металлический манжет. В такую Москву мы вернулись вчетвером (бабушка, мама, сестра и я) после оккупации, где наш дом спалили немцы.
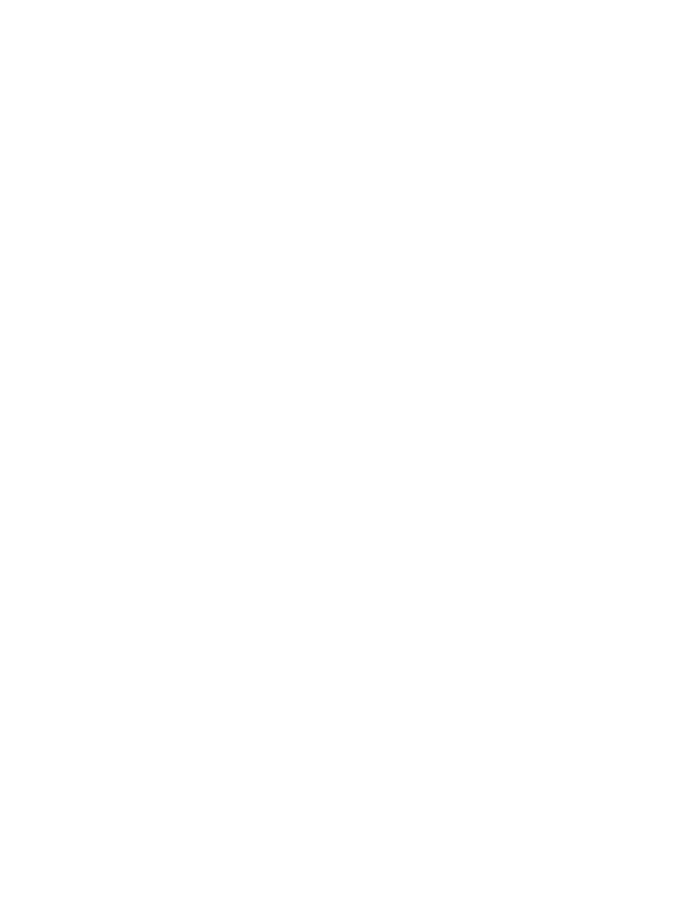
Ирина Федоровна Дикова.
Фото: личный архив
Но дальше, внятно, протяженно и вновь с нестерпимым желанием замереть в одиночестве встает из памяти все тот же кухонный стол, за которым прощалась моя бабушка со своим сыном. Но теперь за этим столом сижу я сам, а сбоку от меня немецкий офицер, нет, не чужой и не пугающий, к многолюдью я притерпелся, и острота утраты ощущения собственного дома уже ушла – в горнице была устроена офицерская столовая австрийской летной части, а нас выселили за печь на кухню – но очень томителен и чересчур некстати запах аниса от конфеты, которой меня угостил этот офицер (что это был анис – тоже понял много позже, в Москве, распробовав знакомый вкус). Угостил и погладил по голове, под его рукой кожа на голове благодарно съежилась в предслёзной истоме, но снова мир распался на три части: тёмная глубина кухни, еще более помрачневшая от доедающей заоконный зимний свет темноты офицерского мундира, серая столешница под моим подбородком и понурая белизна сугробов, видных мне в окне, когда я скосил заплывающие слезами от ощущение малости и потерянности своей глаза.
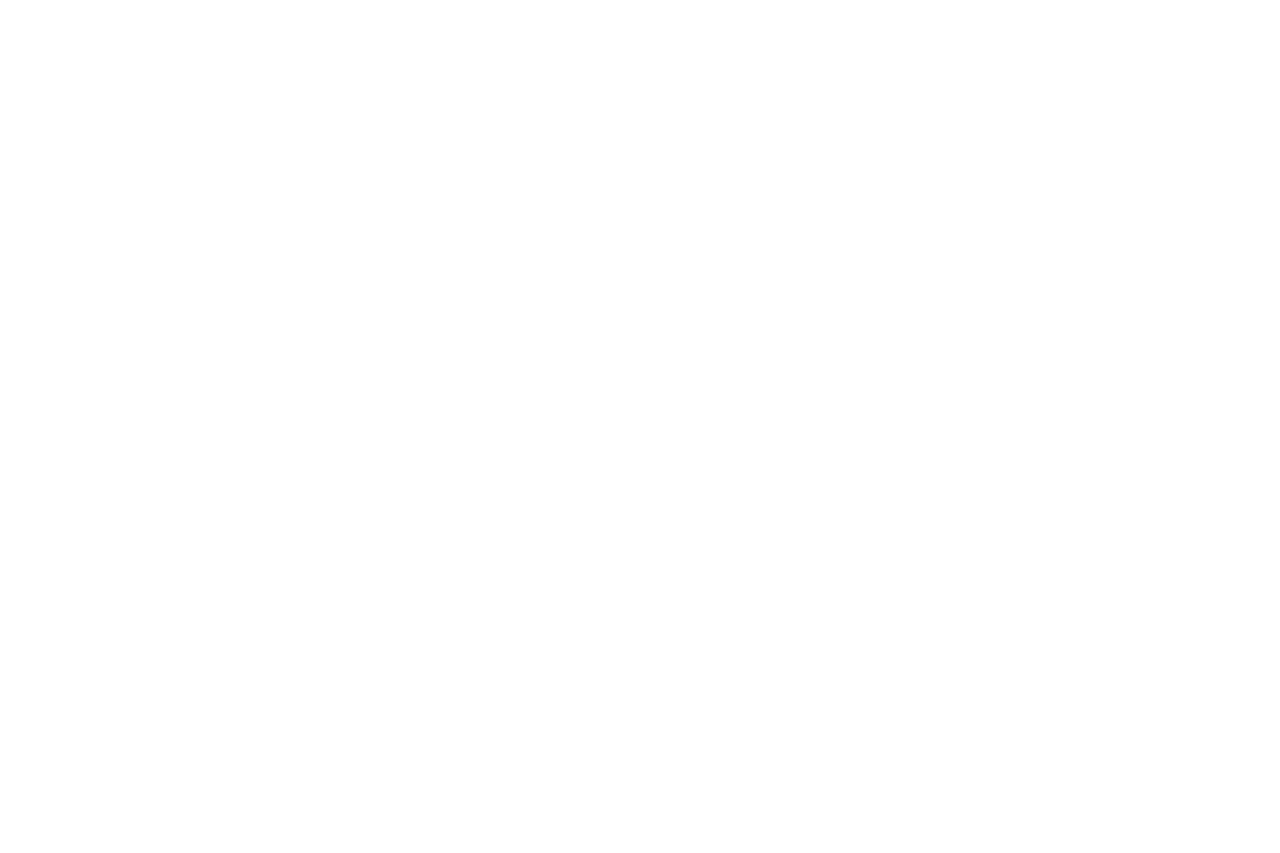
Фото: pastvu.com
И был третий раз, когда я вынырнул в эту военную зиму в осознаваемую память о себе среди предметного мира. Это воспоминание начинается сразу, резко, без каких-либо мерцающих пробуждений из темноты.
Я, укутанный в такой большой платок, что на свободе от меня остались только валенки, сижу на полу какой-то чужой, забитой людьми и отсыревающей от напускаемого холода избы, а около моих ног труп взрослого на мой тогдашний взгляд мужчины. Мне не страшно, но и не любопытно, только замерзшая кровь около ран не дает отвести глаза. Я даже украдкой дотрагиваюсь до его простреленной скрюченной руки, и вдруг надо мной, почти сквозь меня вырастают сапоги. Поднимаю глаза – немец, вооруженный и деловой, отмахивается от плачущих и о чем-то умоляющих его женщин. Потом внезапно поднимает ногу и ленивыми пинками начинает гнать убитого к порогу.
Дальше не помню, но сидит во мне до сих пор мгновение встречи взглядов – моего и немца. Он, еле замечая меня, вскользь и машинально усмехнулся и, уже почти нацело втянутый в женский воющий круг, настаивал на меня автомат, все равно как сделал козу, и не испуг забрал меня, а обмирающая тоска неприкаянности.
Немного позднее, уже к концу войны, когда память заработала не прерываясь, я узнал, что же и как было и у чьего трупа я сидел.
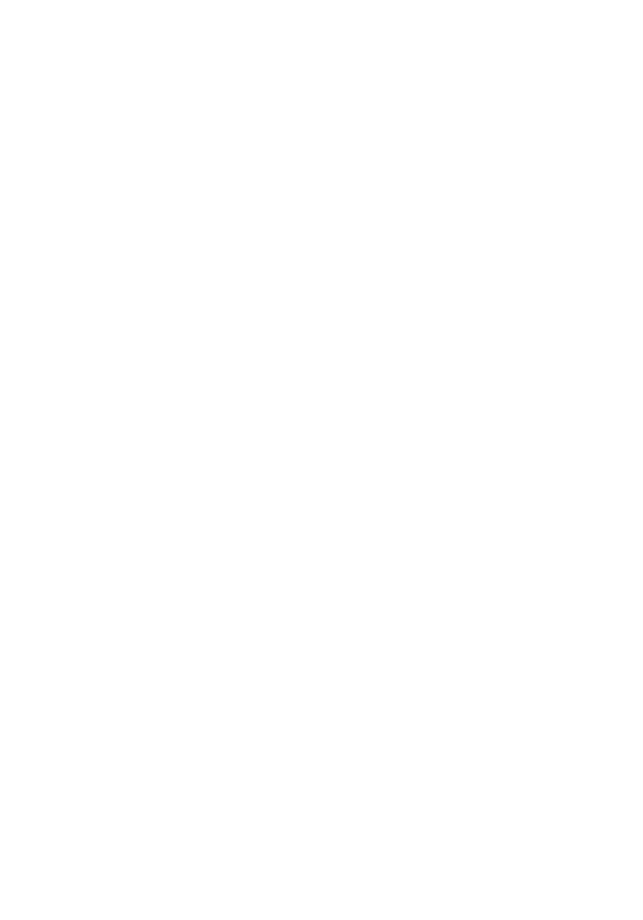
До Москвы – 100 км.
Фото: patvu.com
Каратели сразу начали с поисков спрятанного оружия и в одном вдовьем доме нашли сломанную трехлинейку, подобранную тринадцатилетним сыном хозяйки, а за это полагался расстрел.
Мальчишка, измученный ужасом близкой расправы, спасаясь, заслонился единственно надежным в его глазах оправданием: «Не я один такой». И когда его спросили, а кто же еще, он назвал Вовку Дикова, москвича, чужака среди его шебаршинских сверстников, приехавшего с матерью, бабушкой и младшей сестрой переждать в деревне голодную городскую неразбериху.
Немцы устроили обыск в доме, где жила эта московская семья, ничего не нашли, но снабженные сведениями, что Вовка Диков пионер и сын ополченца, увели парня с собой, а на следующий день стало известно, что к вечеру его расстреляют.
На огромный, кое-как заваленный снегом заречный луг перед закатом каратели выгнали всю деревню и на ее глазах убили мальчика, убили страшно, жестоко, заставив перед смертью всего изойти криком. Он подраненный ползал по снегу и молил мать упросить коменданта, чтобы больше не стреляли, а в него слали пулю за пулей, пока он совсем не затих.
Но, Боже, как он кричал, и как ему было больно.
Расстрелянного запретили хоронить, но его мать вместе с моей ночью унесли Вовку в дом, надеясь обрядить и незаметно зарыть в огороде до рассвета, да только вот земля оказалась слишком промерзлой и вовремя вырыть могилу не удалось. А утром, вслед за соседками, сочувствующими и любопытными, пришел немецкий патруль с требованием вернуть казненного на место расстрела.
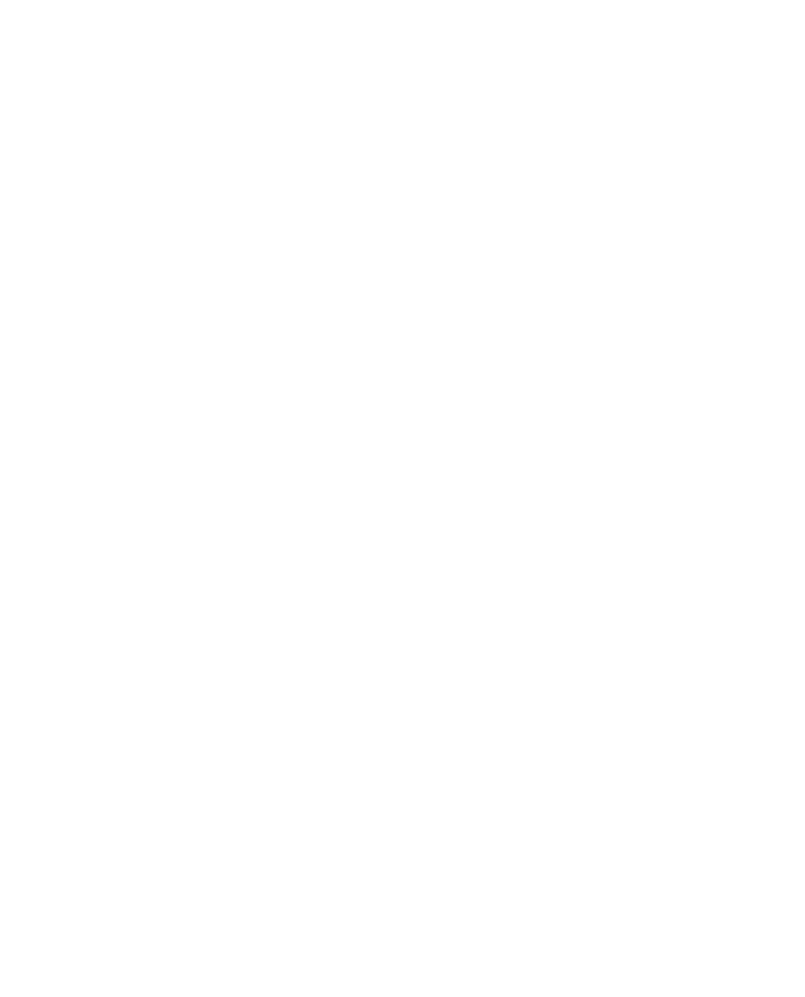
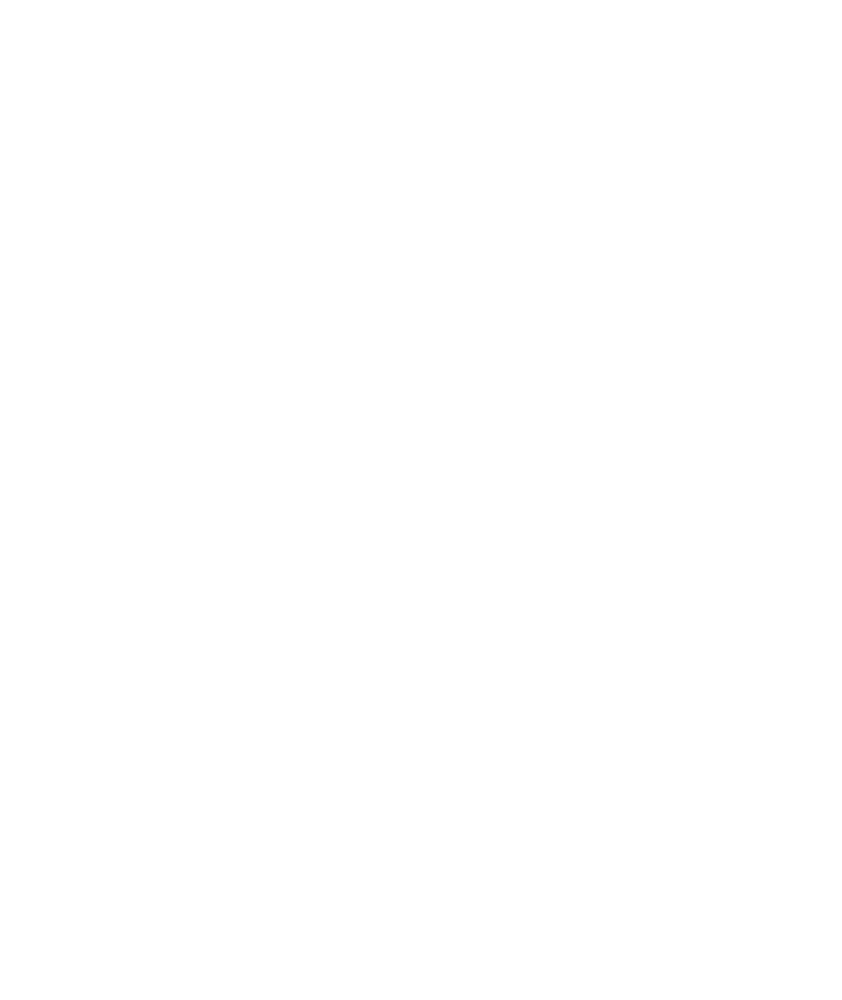
Центральный государственный архив Московской области
Источник: безсрокадавности.рф
20 июля 1943 года
Комисия в составе председателя Валосова Прохора Павловича
Членов комисий; Осташенкова николая Силиверстовича, Лепешкиной Пелагеи Петровны
Свидетелей: Пыркова Павла Акимовича, Зайцевой Александры Ивановны,
проживающих в дер. Шебаршиино Можайского Района московской облости составили акт о злодеянии учиненным немецко-фашистскими захватчиками в дер. Шебаршино Можайского Района Московской облости.
30 декабря 1941 года расстреляли гр-н д. Шебаршино Уманского Ивана Сидоровича 1898 года рождения и Дикова Владимира Николаевича 1928 года рождения.
Уманского около дома гр-ке Пырковой Татьяны Васильевны а Дикова за деревней по направлению к с. Холм в 100 метрах
О чем и составлен настоящей акт
Печать,
подписи.
А через день с восточной, можайской стороны одна за другой занялись огнём деревни – это отступающие немцы жгли и человеческое жилье, и солдатское укрытие.
Стоя в промерзлой борозде на пологом, распаханном холме среди встревоженных и ждущих лиха баб нашей слободы, я слышал – Павлищево, Перещаново, Радчино, Третья ферма, Клементьево – горело всё, до чего дотягивался взгляд. Когда зажгли Клементьево, самое близкое от нас большое, когда-то волостное село, сомнений уже не было – и Шебаршину гореть. Бабка с матерью кинулись в дом, и собрав в сундук надежное добро – одежду, посуду, швейную машину – принялись закапывать его в подполе. За этим занятием их и застала фойеркоманда, которая вышвырнула всех из дома, не дав и собраться толком.
А на улице каратели строили колонну из шебаршинских жителей, и едва мы с сестрой успели сесть в санки, как постепенно умолкающую толпу погнали на запад. Бабка и мать пристроились идти рядом с измученной и тучной Екатериной Васильевной Грузиновой, матерью убитого Вовки Дикова, тянувшей из последних сил сани, куда она усадила свою малоподвижную и задыхающуюся мать и четырехлетнюю дочь.
Вдоль реки, мимо торчащих из сугробов нечастых ивовых прутьев и будыльев татарника, присмирев и не разбирая дороги, оглохший клин ребятишек и баб покинул слободскую низину и на крутом раскатанном подъеме втянулся в порядок домов, который вел через на живую нитку сшитые лавы в холм, а дальше к Уваровке, Гжатску, а там и Белоруссии. Я уже освоился с неясностью предстоящего пути, выделил из всех случайных звуков скрип саночьих полозьев, и, оставив для глаз только полы бабушкиного тулупа, почти вернул ощущение домашней укрытости.
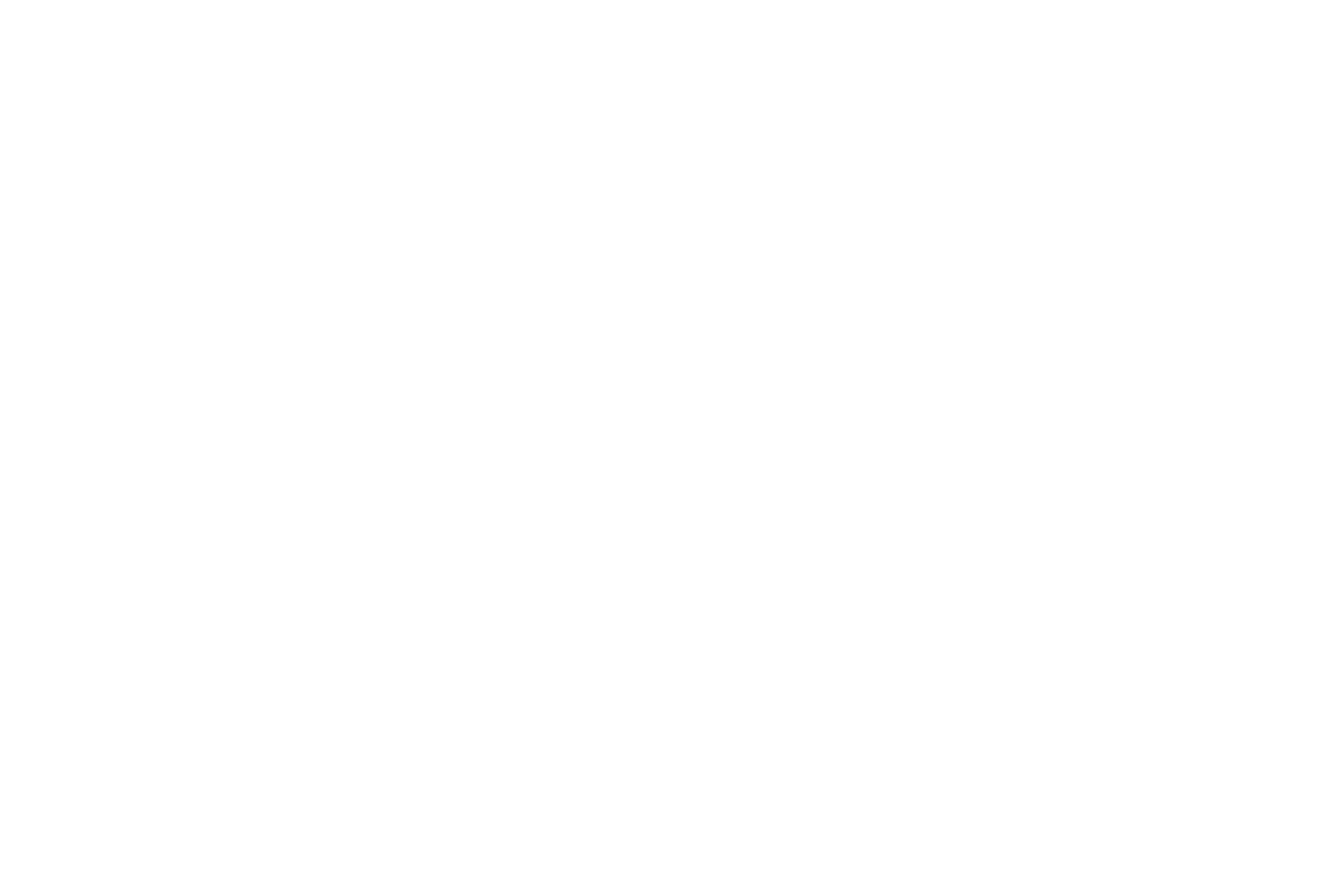
1941 год.
Фото: Галина Санько, журнал "Советское фото" №3, 1985 г.
Конвоиры знали свое дело – не дав никому ни минуты, чтобы накалиться опасным безразличием отчаяния, они согласованно, резко и толково завернули заголосивших баб и плачущую ребятню на главную улицу Шебаршина и спорой рысцой погнали бог ведает зачем им нужную толпу за околицу, на Холмскую дорогу, с которой и начинался наш исход на запад, в плен. Пока гуртом гнали по улице, каждый, напряженно повернув голову в сторону слободы, отыскивал в просветах между нетронутыми пока домами главного порядка деревни свою избу: а вдруг ее обошел огонь. Не обошел: горела вся слобода, и поджигатели с канистрами уже потянулись к домам, мимо которых мы только что прошли.
Разъединенная равенством горя и бессилия толпа, покидая пределы Шебаршина, втягивалась на узкую, еле проступающую в глубоком снегу полевую дорогу, а конвоиры частью перебрались в голову колонны, частью же замкнули ее.
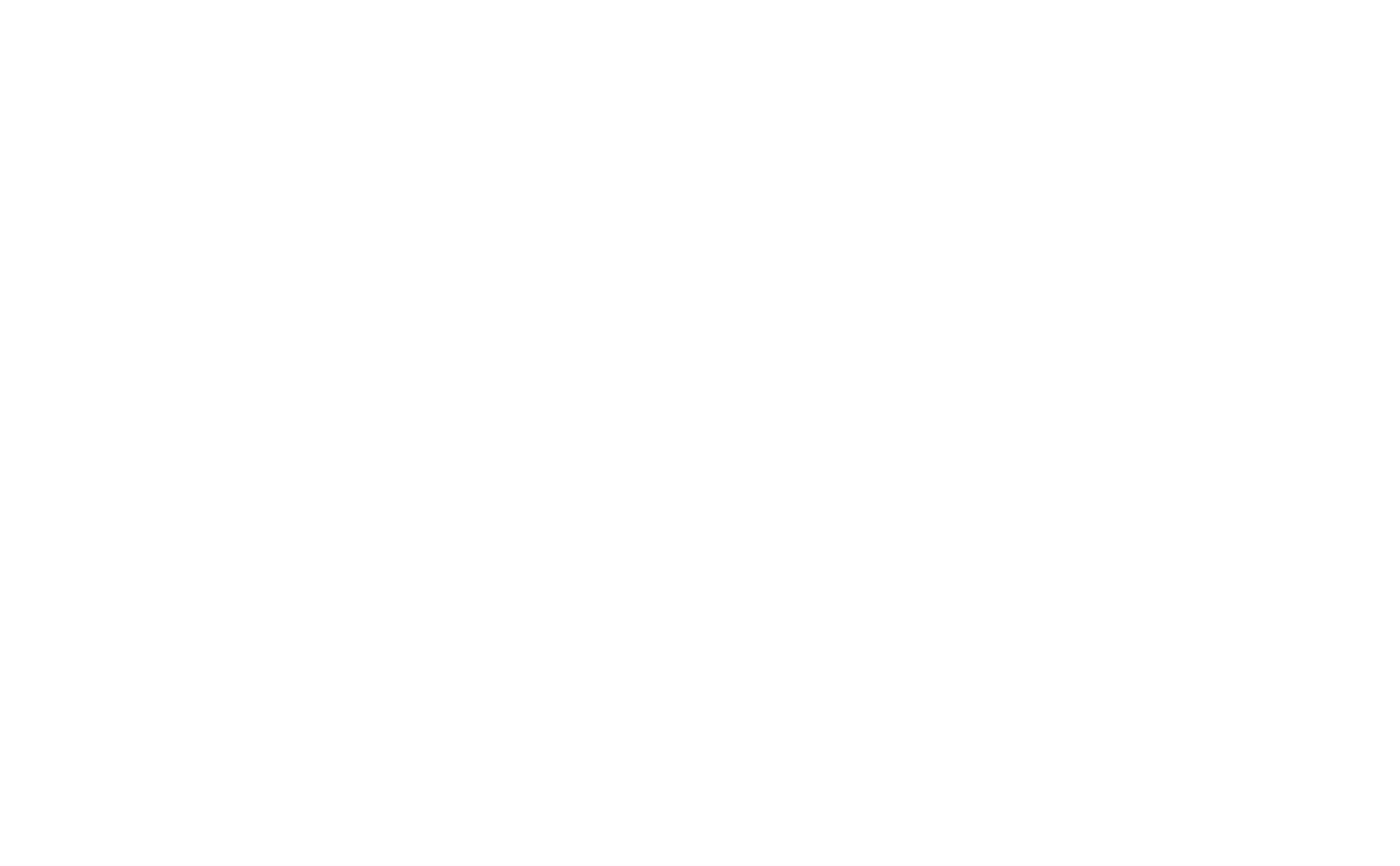
Фото: Guido Knopp. «Der verdammte Krieg. Unternehmen Barbarossa».
C.Bertelsmann Verlag GmbH. München, 1991
Озноб, запах быстро остывающей гари, висящие над головой причитания и монотонная ненужность движения вверх по искрошенной надели мало-помалу вогнали меня в дремоту, и я не сразу уловил, что бабий плач то в одном, то в другом месте стал переходить в ругань и угрожающие крики. И вдруг в стиснутой узостью замешкавшейся толпе начали остервенело проталкиваться в нашу сторону несколько баб, среди которых были и часто забегавшие к нам в дом соседки, подружки матери. Отмахиваясь от кинувшейся им наперерез бабки, они вцепились в обреченно поникшую Екатерину Васильевну и с криками «Она, она ведьма московская во всём виновата, из-за ее стервеца зажгли» выпихнули онемевшую в горе и растерянности женщину на обочину, швырнули в снег и принялись топтать ногами. Покорная, она лежала ничком, даже не защищая головы, спрятав руки под себя, а когда почувствовала, что ее мучительницы притомились, попробовала, кренясь и проваливаясь в снегу, подняться, но тут обезумевшие бабы опрокинули на нее сани с матерью и дочерью.
И тогда Екатерина Васильевна, наконец, заплакала.
Подошедшие конвоиры не мешали расправе, хотя и не особенно увлеклись зрелищем непонятной им свалки: они просто стояли, сколько им хотелось, а когда надоело, выпустили из автоматов остерегающую очередь и, не оглядываясь, разошлись по своим местам. Утомленные мстительницы гурьбой вкатились в поджидавшую их толпу, а следом, обвиснув на чьих-то руках, вернулась и Екатерина Васильевна.
Мать подхватила сани со старухой и девчонкой, и снова мы потянулись рядом, постепенно выползая на открытый боковому ветру вымороженный гребень косогора, над которым невдалеке нависал придорожный край той самой Ёрдышки, любимого летнего леса.
Сделалось совсем холодно, и торопя приближение лесного укрытия, все разом задвигались быстрей, и каждый всё оглядывался, вглядывался, замирая в закатный край неба – нет ли дыма: впереди за лесом начинался холм, огромное сало с церковью и погостом, и если его не зажгли, значит, какой-никакой, а ночлег.
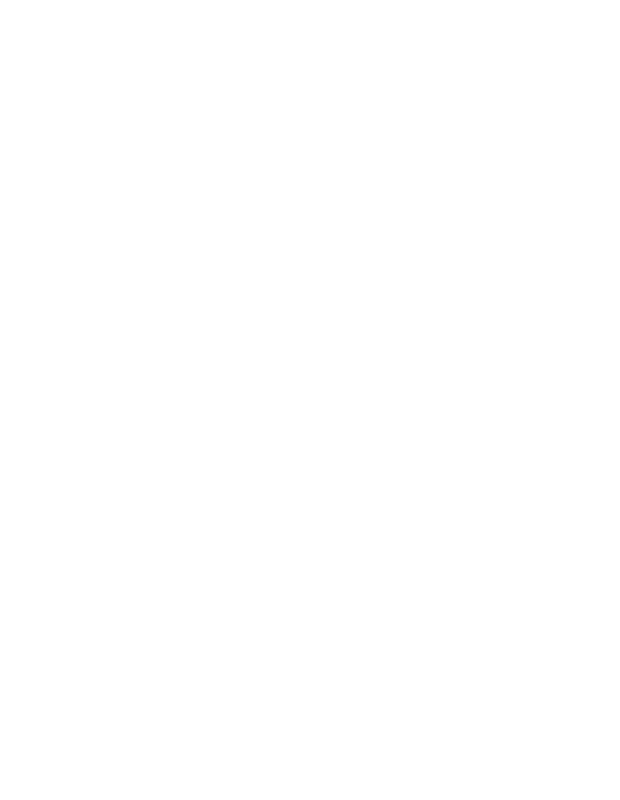
Фото: Николай Ситников, 1942
Запись звучащей речи
Л. С.: – Обрывается рассказ о том, как вас гнали на словах: сделалось совсем холодно и торопя приближение лесного укрытия все разом задвигались быстрей и каждый все оглядывался, вглядывался, замирая, в закатный край неба – нет ли дыма. Впереди за лесом начинался холм, огромное село с церковью и погостом. И если его не зажгли, значит какой-никакой, а ночлег.
Здесь мне нужно будет ваше дополнение – на следующий день встретились наши.
Ю.Д.: – Пустили нас. Это село не сожгли и нас пустили в дом и на полу мы там устроились спать. А на следующий день пришли наши солдаты – выбили немцев и командир к моей бабушке подошел: – Мать, прости, что мы не успели. Сожгли вашу деревню. Мы торопились, но не успели. Вот это я запомнил.
Ю.Д.: – Нет, приехала не мама, а приехал муж ее младшей сестры. Он нас отвез вместе с бабушкой, перевез в Москву. Но поскольку был комендантский час, мы ночь просидели на Белорусском вокзале. И я сейчас до сих пор помню эти скамейки железнодорожные – желтые, очень такие размашистые были скамейки. И вот я как раз их помню.
Л.С.: – Вот подхватываю с этого места – ваша запись: «Москва 42-го года. Укромная желтизна деревянных скамеек на Белорусском вокзале».
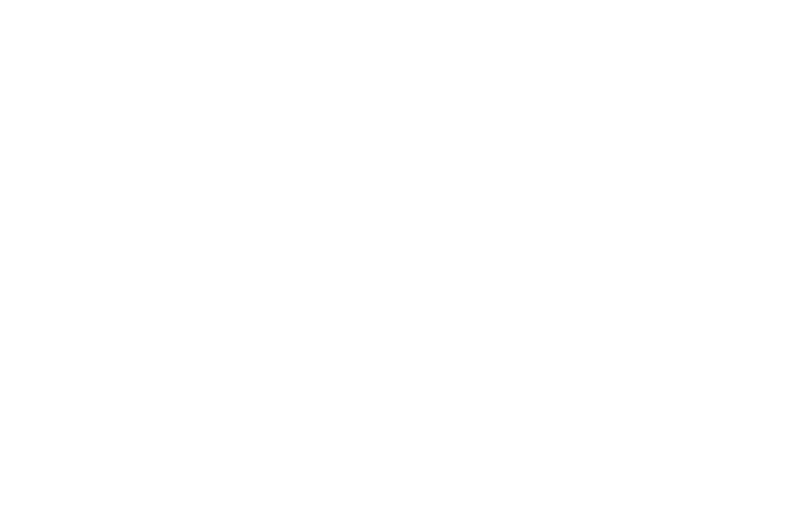
Фото: pastvu.com
Ю.Д.: – Да-да.
Л.С.: – «Где нас застала воздушная тревога по дороге с поезда домой. Прожектора, перебежки через булыжную улицу, наискосок – бомбоубежище. Мокрицы, расползающиеся из-за отсыревших канализационных труб в нашей подвальной комнате, неприятные, но за унылость траектории не заслуживающие забирающей дух гадливости, керосинка на полу, ужас перед разлитым керосином и как я постепенно слабел от неминуемости расплаты, скарлатина, страшное слово «бокс» в детской больнице, изнеможение от многодневной карточной игры «Акулина» с соседской девчонкой, кашель её отца, про которого я тогда и узнал, что он курил чай, чтоб не пойти на фронт, оживить давно залеченный процесс в легком». Очень хорошо написано. Вот это приезд в Москву, этот вокзал и особенно вот это одиночество, когда вы остались один дома – вот если вы это расскажите с голоса, это будет очень хорошим концом всей этой истории.
Ю.Д.: – Что я должен рассказать?
Л.С.: – Ну вот как вы начали говорить про вот эти скамейки на Белорусском вокзале, как вы потом в доме. Как вы там были и почему вы оставались один и вот эти правильные слова – самочувствие одного, когда вы были.
Ю.Д.: – Нас вывез из деревни сожженной муж младшей сестры моей матери, дядя Володя и вот мы с ним сидели как раз на Белорусском вокзале, пережидали комендантский час, чтобы потом поехать в дом, на улицу Заморенова, в эту полуподвальную комнату нашу.
Л.С.: – И какая там была жизнь, в этой комнате? Вот этой военной зимой для вас?
Ю.Д.: – Ну она в общем-то была такая – пасмурная жизнь. Потому что… Самое страшное – это была керосинка. Поскольку моя сестра плакала, что она есть хочет, и я хотел разогреть еду и керосинка эта у меня опрокинулась. Это было так страшно! И я пол оттирал от керосина, разлившегося, и плакал.
Л.С.: – А почему это было страшно? Он горел или просто потому, что вы пролили этот керосин дефицитный.
Ю.Д.: – Пролил и такой запах тяжелый стоит пролитого керосина и есть опасность, что если спичку зажгут, то может вспыхнуть и вся комната.
Л.С.: – А вы это уже понимали тогда, в три с половиной года свои.
Ю.Д.: – Это я понимал. Керосин загорался. Потому что я прошел через пожар, который немцы устроили в деревне, огонь меня преследовал.
Л.С.: – Пролитый керосин... А потом сестру забрали в ясли и вы совсем один остались в этой комнате?
Ю.Д.: – Да, но потом открыли детский сад, такой круглосуточный и мать уже отвела. Но 42-й год целиком в этом подвале прожил.
Л.С.: – Вот расскажите, как вы его прожили? Что, какие мысли думали?
Ю.Д.: – Там бабушка была… Ну и как раз когда детский сад открыли, бабушка уехала в деревню, вырыла себе землянку. Так что в этот дом я вернулся в 44-м году только, после детского сада.
Л.С.: – В бабушкин?
Ю.Д.: – Нет, в наш.
Л.С.: – В свой? То есть он был не просто круглосуточный сад, а даже без выходных?
Ю.Д.: – Без выходных, да.
Л.С.: – Сплошная жизнь там. Как интернат.
Ю.Д.: – Ну это Трехгорка. Там директор этой фабрики была знаменитая такая женщина. Потом она стала членом ЦК. Но она очень как-то беспокоилась о детях работников этой Трехгорки. Ну и вот – детские сады и ясли. Она строила за счет трехгорских доблестей. Ну вот и уже в 43-м году в детский сад на круглосуточное жилье отправили. Ну еще были какие-то трудные дни, когда налетали немецкие самолеты на Москву и нас из детского сада этого тут же отправляли в подвал. Ну пока мы до этого подвала добирались через двор, видели, как прожектора ловят этот немецкий самолет и зенитки начинают стрелять. При нас в него не попали, но потом рассказывали, что все-таки его сбили. А нас в подвал отправили, чтоб от этого возможного, возможных неприятностей с немецким самолетом – мало ли что он выкинет – он как раз над нашим детским садом летит.
Л.С.: – Юшенька, вот вчера, когда мы аукались, когда я вчера звонила где-то в полпятого вам, вы сказали, что вот вы весь день вспоминали и так сказать топчитесь вокруг этого воспоминания, что когда вас привезли в Москву и бабушка потом уехала в Можайск, а мама круглосуточно на Трехгорке, что вы оставались один и что вот это состояние одиночества и вот этого огромного дня, в котором как-то сам с собой что-то делать, то оно имеет какое-то для вас значение. Что как-то надо проговорить: что такое было вот это одиночество, после всего, что случилось с вами в деревне и вот этот опыт быть наедине с собой.
Ю.Д.: – Ты понимаешь, именно вот эти вот дни одиночества – они как раз были наполнены всеми событиями предыдущих дней. И это крутилось у меня все равно, возвращалось в голову, в память. И я снова узнавал какие-то события, которые у меня вдруг из памяти выпали, а тут выплывали. Ну я перебирал все это. Ну а потом, уже когда детский сад открыли – это уже 43-й год, там уже вот эту вот питательного, упоительного, дорогого для меня одиночества уже не было в детском саду. А пока оно было со мной, пока я сидел в этом подвале, оно меня очень грело, это одиночество. И я не то, что не боялся, вот знаешь, как-то радовался этому одиночеству. Может оттого, что слишком много было населенных дней – всегда какие-то люди – от немцев до бабушкиных родственников. Мне тогда это одиночество показалось очень питательным, верней не то, что питательным – бережно как-то оно со мной обращалось, это одиночество. Я не пугался его, а наоборот им дорожил.
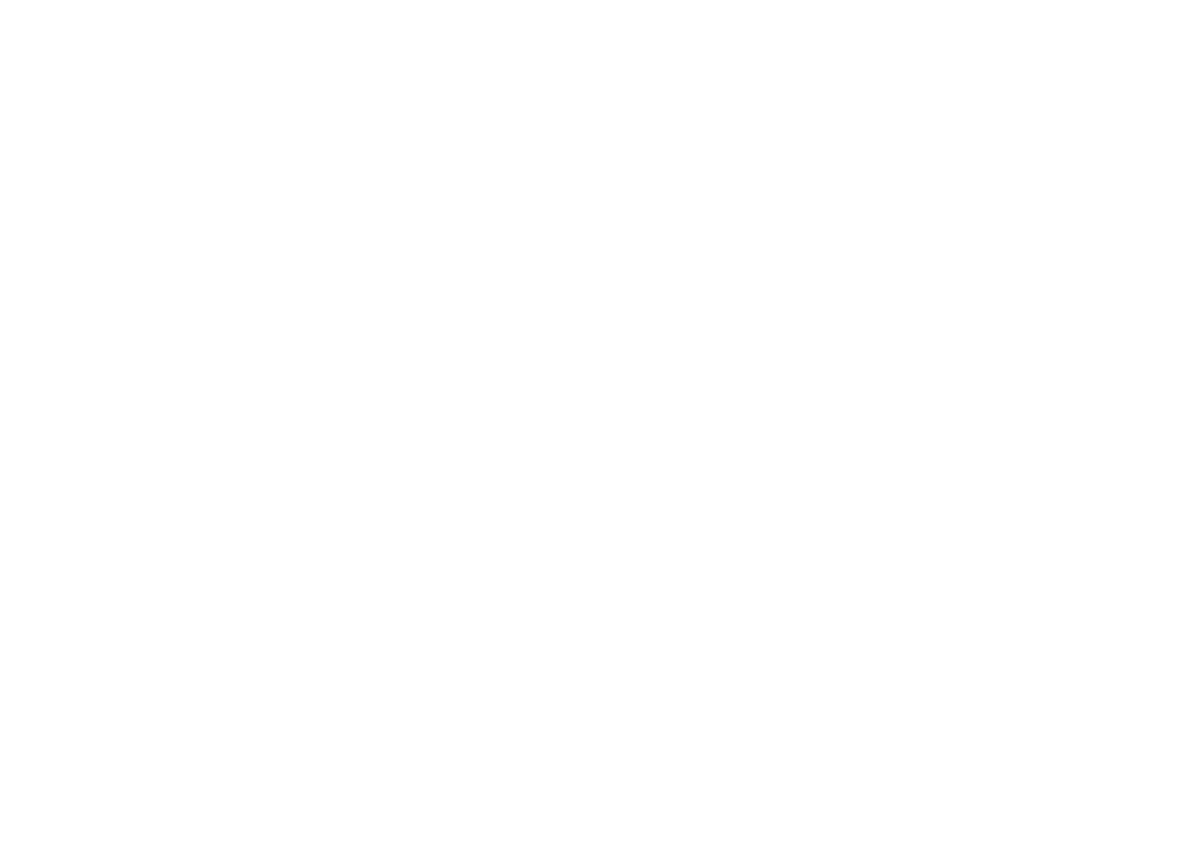
Фото из личного архива
Призыв одиночества. Дневники
Редактор: Любовь Сумм, Ирина Шанаурина
Расшифровка: Любовь Сумм, Ирина Шанаурина
Бильд-редактор, верстка: Руслан Сухушин
Заглавное фото: pastvu.com
