Из дневников Исаака Крамова
Часть вторая
1968 - 1975 гг.
(Частный архив Ольги Павловны Коган)
(Частный архив Ольги Павловны Коган)
Исаак Наумович Крамов (Рабинович) – литературный критик, писатель.
Вёл дневники с 1942 года до своей скоропостижной смерти в 1979 году. Собеседник, друг – многих значимых людей своей эпохи. Человек тонко чувствующий, переживающий, думающий.
Представляем вашему вниманию вторую часть проекта – отрывки
из дневников за 1968 – 1975 гг.
Вёл дневники с 1942 года до своей скоропостижной смерти в 1979 году. Собеседник, друг – многих значимых людей своей эпохи. Человек тонко чувствующий, переживающий, думающий.
Представляем вашему вниманию вторую часть проекта – отрывки
из дневников за 1968 – 1975 гг.
19 октября 1919 года родился Исаак Наумович Крамов.
Сейчас его имя почти забыто и мало кому известно. А между тем это был замечательный человек, критик и литератор, к сожалению, не успевший в полной мере раскрыть свой талант – 23 октября 1979 года, вскоре после своего шестидесятилетия, он скоропостижно скончался.
Мне посчастливилось работать с дневниками Крамова и это было удивительное время.
Я благодарна Ольге Павловне Коган и Любе Сумм за эту работу.
Мы решили продолжить этот проект и опубликовать некоторые выдержки из дневников, как свидетельство ужаса и недопустимости тоталитарного режима. Как свидетельство преступления власти против своего народа и против человечества в целом. Сейчас это особенно актуально.
Сейчас его имя почти забыто и мало кому известно. А между тем это был замечательный человек, критик и литератор, к сожалению, не успевший в полной мере раскрыть свой талант – 23 октября 1979 года, вскоре после своего шестидесятилетия, он скоропостижно скончался.
Мне посчастливилось работать с дневниками Крамова и это было удивительное время.
Я благодарна Ольге Павловне Коган и Любе Сумм за эту работу.
Мы решили продолжить этот проект и опубликовать некоторые выдержки из дневников, как свидетельство ужаса и недопустимости тоталитарного режима. Как свидетельство преступления власти против своего народа и против человечества в целом. Сейчас это особенно актуально.
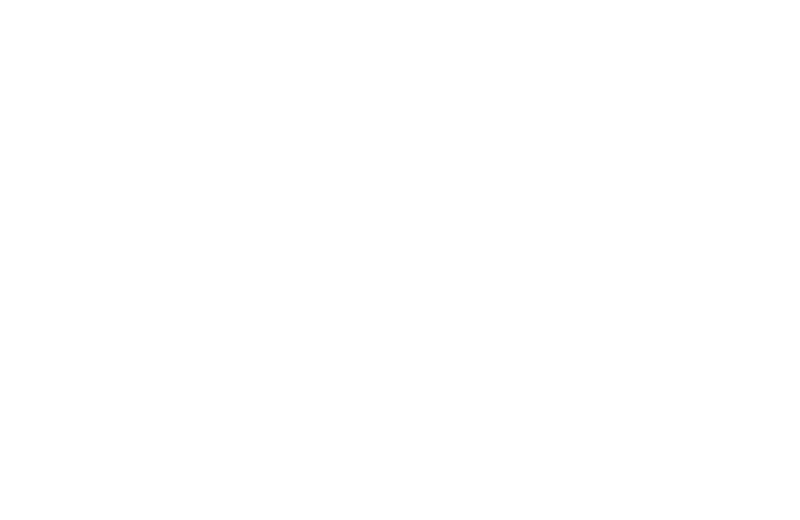
Исаак Наумович Крамов. Звенигород. Фотография из частного архива Ольги Павловны Коган
Письмо против процессов – московских и украинских
16.VIII – 68.
Позавчера в Москве. Накануне вечером позвонил Вика – прилетел из Киева за теми же сертификатами, которые не получил в прошлый раз: забыл дома паспорт.
Условились встретится на следующий день у Аси днем и поехать в Переделкино к Леле.
Вика – трезвый, немного грустный – глаза грустные, – негромкий, как обычно в последние годы, когда трезв.
Он читал письма Короленко Луначарскому – написанные в 1920-21 гг., опубликованные недавно в Париже, а у нас – “самоиздатом”.
Говорили об “Истории моего современника”, о том, как опасно перечитывать книги юности, о Паустовском, которого перечитывать не надо.
Потом – письмо, подписанное Викой – в Киеве его называют
“ассенизационное письмо”: среди подписавших – писателей, ученых, рабочих, и пр. – есть и один ассенизатор. Письмо против процессов – московских и украинских. Вику должны были “разбирать” по партийной линии, но он на партбюро не пошел: “Мне сейчас не до этого”.
Мать в больнице с переломанной ногой.
Надев очки, Вика читает мне из пачки бумаг – все о крымских татарах – выступление генерала Григоренко на банкете, данном татарами в честь 70-летия Костерина, и из письма татар по поводу разгона демонстрации в Чирчике, с избиением и водометами.
Позавчера в Москве. Накануне вечером позвонил Вика – прилетел из Киева за теми же сертификатами, которые не получил в прошлый раз: забыл дома паспорт.
Условились встретится на следующий день у Аси днем и поехать в Переделкино к Леле.
Вика – трезвый, немного грустный – глаза грустные, – негромкий, как обычно в последние годы, когда трезв.
Он читал письма Короленко Луначарскому – написанные в 1920-21 гг., опубликованные недавно в Париже, а у нас – “самоиздатом”.
Говорили об “Истории моего современника”, о том, как опасно перечитывать книги юности, о Паустовском, которого перечитывать не надо.
Потом – письмо, подписанное Викой – в Киеве его называют
“ассенизационное письмо”: среди подписавших – писателей, ученых, рабочих, и пр. – есть и один ассенизатор. Письмо против процессов – московских и украинских. Вику должны были “разбирать” по партийной линии, но он на партбюро не пошел: “Мне сейчас не до этого”.
Мать в больнице с переломанной ногой.
Надев очки, Вика читает мне из пачки бумаг – все о крымских татарах – выступление генерала Григоренко на банкете, данном татарами в честь 70-летия Костерина, и из письма татар по поводу разгона демонстрации в Чирчике, с избиением и водометами.
Петр Григорьевич Григоренко, генерал-майор. Политзаключенный с 1964 по 1965, и с 1969 по 1974. Член Московской Хельсинкской группы. Одним из первых диссидентов обратил внимание на преследования крымских татар.
Алексей Евграфович Костерин. Узник сталинских лагерей с 1938 по 1943. Писатель, журналист. С 1957 года выступал в защиту репрессированных народов, в том числе крымских татар.
Массовые гуляния крымских татар в городе Чирчик Ташкентской области были разогнаны милицией и солдатами. Было задержано более 300 человек. Десять человек были осуждены на срок от 2 до 3 лет. Источник: rus.azattyk.org
Алексей Евграфович Костерин. Узник сталинских лагерей с 1938 по 1943. Писатель, журналист. С 1957 года выступал в защиту репрессированных народов, в том числе крымских татар.
Массовые гуляния крымских татар в городе Чирчик Ташкентской области были разогнаны милицией и солдатами. Было задержано более 300 человек. Десять человек были осуждены на срок от 2 до 3 лет. Источник: rus.azattyk.org
27/VIII.68.
Чехословакия… Радио… Разговоры… Чувство стыда. Что-то кончилось, какая-то черта подведена. Разговоры с И.
В журнале Райком требует собрания и резолюции.
23.VIII. И.: – Нельзя. После этого существование журнала теряет смысл. Это гражданская смерть. Л. считает: “богу – богово, кесарю кесарево”. До сих пор это было верно. Но сейчас это уже не кесарево и богово. Мы не подписывали писем: ради журнала. Было верно. Это была плата за вход. Х. твердо стоит: не голосовать. Л. колеблется. Т.: делайте, как хотите. Он пьет, устал, и не прочь кончать с журналом. На след. день И. рассказывает, как было…
Вышли в сквер поговорить: И., Х., Л. и К. Надо проводить собрание (кроме И.). Собирается партгруппа, читают резолюцию. И.: я голосовать не буду. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Сац: Я не собираюсь жертвовать своим партбилетом ради….
И.: – Мы не можем подписать то, что зачеркивает всю нашу работу.
Л.: – Бери машину и уезжай.
Собрание проходит при каменном молчании без голосования: зачитывают резолюцию и расходятся.
Все это И. рассказывает – мы сидим в каком-то случайном московском дворике, на скамейке под деревом. Перед нами несколько девочек – играют, прыгают через прутик, галдят озабоченно и звонко.
Начало осени. Тихий день с пятнами солнца на уже успокоенной и блекнущей зелени, с тенями, играющими с ветром, с белесоватым небом. Желтые цветы дремлют в траве. Издалека музыка. Благодарение миру, этой тихой минуте, этой боли жить.
2 сентября.
В прошлую среду, 28 августа – в “Литературной газете” под рубрикой “Победят силы социализма” даны сообщения о собраниях в литературных журналах и резолюциях, “решительно поддерживающих” и т.д.
О “Новом мире”. Общее собрание работников журнала приняло резолюцию, в которой говорится:
– Коллектив редакции журнала “Новый мир” полностью поддерживает действия советского правительства, братских социалистических стран по оказанию помощи чехословацкому народу в защите социалистических завоеваний, в обеспечении мира в Европе. Это обязывает каждого из нас повседневно повышать трудовую активность, соблюдать моральное и политическое единство”.
Чехословакия… Радио… Разговоры… Чувство стыда. Что-то кончилось, какая-то черта подведена. Разговоры с И.
В журнале Райком требует собрания и резолюции.
23.VIII. И.: – Нельзя. После этого существование журнала теряет смысл. Это гражданская смерть. Л. считает: “богу – богово, кесарю кесарево”. До сих пор это было верно. Но сейчас это уже не кесарево и богово. Мы не подписывали писем: ради журнала. Было верно. Это была плата за вход. Х. твердо стоит: не голосовать. Л. колеблется. Т.: делайте, как хотите. Он пьет, устал, и не прочь кончать с журналом. На след. день И. рассказывает, как было…
Вышли в сквер поговорить: И., Х., Л. и К. Надо проводить собрание (кроме И.). Собирается партгруппа, читают резолюцию. И.: я голосовать не буду. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Сац: Я не собираюсь жертвовать своим партбилетом ради….
И.: – Мы не можем подписать то, что зачеркивает всю нашу работу.
Л.: – Бери машину и уезжай.
Собрание проходит при каменном молчании без голосования: зачитывают резолюцию и расходятся.
Все это И. рассказывает – мы сидим в каком-то случайном московском дворике, на скамейке под деревом. Перед нами несколько девочек – играют, прыгают через прутик, галдят озабоченно и звонко.
Начало осени. Тихий день с пятнами солнца на уже успокоенной и блекнущей зелени, с тенями, играющими с ветром, с белесоватым небом. Желтые цветы дремлют в траве. Издалека музыка. Благодарение миру, этой тихой минуте, этой боли жить.
2 сентября.
В прошлую среду, 28 августа – в “Литературной газете” под рубрикой “Победят силы социализма” даны сообщения о собраниях в литературных журналах и резолюциях, “решительно поддерживающих” и т.д.
О “Новом мире”. Общее собрание работников журнала приняло резолюцию, в которой говорится:
– Коллектив редакции журнала “Новый мир” полностью поддерживает действия советского правительства, братских социалистических стран по оказанию помощи чехословацкому народу в защите социалистических завоеваний, в обеспечении мира в Европе. Это обязывает каждого из нас повседневно повышать трудовую активность, соблюдать моральное и политическое единство”.
Вторжение советских войск в Прагу в августе 1968 года.
Фотограф: Йозеф Куделка
Фотограф: Йозеф Куделка
А нужно так, чтоб совсем не убивали – ни с верой, ни без веры
12.II.70.
С Булатом в Дубултах.
Разговор со спутником.
…Вот этот человек был настоящий чекист.
Булат:
– Что значит настоящий чекист? Не понимаю… Все равно убивал.
– Ну, Дзержинский.
– Ну, и какая разница. Дзержинский убивал – верил, что так нужно, а другой не верит – но итог-то один. А нужно так, чтоб совсем не убивали – ни с верой, ни без веры.
И помолчав.
– До чего дожили. Какой-то гитарист должен учить гуманизму.
Рассказывает об отце – в 1937 г. – секретарь горкома партии в Нижнем Тагиле. (грузин). Мать – армянка, тоже партийный работник.
Дома – аскеза, дома и быта нет. Сначала забрали отца (почти вся семья отца – много сестер и братья, одна из сестер – жена поэта Галактиона Табидзе – были забраны). Мать ходила хлопотала. И ее тоже потом.
Мать первый раз вернулась после войны. Забрали второй раз в 49-м. Булат с теткой, узнавшей с невероятным трудом, что вагон с арестантами будут цеплять к пассажирскому поезду, пришли к поезду, вагон арестантский – пустой. Потом повели кучкой женщин, конвой вокруг, и быстро – в вагон, в вагон.
Мать. Булат машет ей – мол, мама, не беспокойся, у меня все в порядке, на большой палец – успокаивает…
Потом дали начальнику охраны взятку, чтобы передал матери чайник. Деньги и чайник взял, но чайник матери не передал.
С Булатом в Дубултах.
Разговор со спутником.
…Вот этот человек был настоящий чекист.
Булат:
– Что значит настоящий чекист? Не понимаю… Все равно убивал.
– Ну, Дзержинский.
– Ну, и какая разница. Дзержинский убивал – верил, что так нужно, а другой не верит – но итог-то один. А нужно так, чтоб совсем не убивали – ни с верой, ни без веры.
И помолчав.
– До чего дожили. Какой-то гитарист должен учить гуманизму.
Рассказывает об отце – в 1937 г. – секретарь горкома партии в Нижнем Тагиле. (грузин). Мать – армянка, тоже партийный работник.
Дома – аскеза, дома и быта нет. Сначала забрали отца (почти вся семья отца – много сестер и братья, одна из сестер – жена поэта Галактиона Табидзе – были забраны). Мать ходила хлопотала. И ее тоже потом.
Мать первый раз вернулась после войны. Забрали второй раз в 49-м. Булат с теткой, узнавшей с невероятным трудом, что вагон с арестантами будут цеплять к пассажирскому поезду, пришли к поезду, вагон арестантский – пустой. Потом повели кучкой женщин, конвой вокруг, и быстро – в вагон, в вагон.
Мать. Булат машет ей – мол, мама, не беспокойся, у меня все в порядке, на большой палец – успокаивает…
Потом дали начальнику охраны взятку, чтобы передал матери чайник. Деньги и чайник взял, но чайник матери не передал.
Булат Шалвович Окуджава. Источник: culture.ru
Булат Окуджава с родителями. Источник: libmir.com
Булат Окуджава с родителями. Источник: libmir.com
Москва. 22 февр. 70.
Закрытие “Нового мира”.
Первое известие: Булат позвонил домой из Дубулт, узнал от жены, что смена редколлегии.
Позвонил Лене – 10 февраля было решение секретариата СП о замене Лакшина Большовым. Твардовский отказался. Тогда секретариат в пожарном порядке дал новое решение – о выводе 4-х членов редколлегии – Лакшина, Кондратовича, Саца и Виноградова и замена их Большовым, О. Смирновым, Рекемчуком, Овчаренко. Последний выступал против “Нов. мира”, и введение в состав редколлегии явно вело к отставке Твардовского. Официальный предлог – “освежить” редколлегию. Повод: опубликование в “Экспрессо” поэмы Твардовского, которая весной минувшего года должна была пойти в “Новом мире”. Опубликовали под названием: “Над прахом Сталина” или что-то в этом роде.
Говорят о возможности провокации, т.е. преднамеренной передаче за рубеж этой рукописи – чтобы получить повод для закрытия журнала. Публикация в “Экспрессо” вызвала гнев начальства. Твард. опубликовал в “Литературке” свой протест против публикации.
Несколько писем отправлено было Брежневу, Подгорному (говорили, что он, якобы, недоволен операцией с “Новым миром”), Косыгину.
Позавчера – 20 февр. – в 5 ч. вечера я пришел в “Новый мир”.
Петяша с деньгами в руках:
– Дай рубль.
Собирали на водку.
Пол часа назад Твардовский обошел отделы и попрощался, каждому сказав что-то на прощанье. Отставка не причина, но ему надоело сидеть каждый день и ожидать – никто ему не позвонил, никто не вызвал для разговора.
Прогнали щелчком.
Что все же произошло?
Как скинули легким толчком журнал, представляющий эпоху в русской жизни?
Как легко отделались. Но лишь по видимости легко. Долго еще будут ощущаться последствия этих дней. Много пройдет десятилетий, пока возникнет нечто похожее на “Новый мир” этих лет. Многое должно сойтись, совпасть, чтобы снова появилось столь значительное явление – люди, эпоха, ожидания…
Проводили живого человека, неповторимую судьбу, и оттого грустно и тяжко порою чуть не до слез.
Закрытие “Нового мира”.
Первое известие: Булат позвонил домой из Дубулт, узнал от жены, что смена редколлегии.
Позвонил Лене – 10 февраля было решение секретариата СП о замене Лакшина Большовым. Твардовский отказался. Тогда секретариат в пожарном порядке дал новое решение – о выводе 4-х членов редколлегии – Лакшина, Кондратовича, Саца и Виноградова и замена их Большовым, О. Смирновым, Рекемчуком, Овчаренко. Последний выступал против “Нов. мира”, и введение в состав редколлегии явно вело к отставке Твардовского. Официальный предлог – “освежить” редколлегию. Повод: опубликование в “Экспрессо” поэмы Твардовского, которая весной минувшего года должна была пойти в “Новом мире”. Опубликовали под названием: “Над прахом Сталина” или что-то в этом роде.
Говорят о возможности провокации, т.е. преднамеренной передаче за рубеж этой рукописи – чтобы получить повод для закрытия журнала. Публикация в “Экспрессо” вызвала гнев начальства. Твард. опубликовал в “Литературке” свой протест против публикации.
Несколько писем отправлено было Брежневу, Подгорному (говорили, что он, якобы, недоволен операцией с “Новым миром”), Косыгину.
Позавчера – 20 февр. – в 5 ч. вечера я пришел в “Новый мир”.
Петяша с деньгами в руках:
– Дай рубль.
Собирали на водку.
Пол часа назад Твардовский обошел отделы и попрощался, каждому сказав что-то на прощанье. Отставка не причина, но ему надоело сидеть каждый день и ожидать – никто ему не позвонил, никто не вызвал для разговора.
Прогнали щелчком.
Что все же произошло?
Как скинули легким толчком журнал, представляющий эпоху в русской жизни?
Как легко отделались. Но лишь по видимости легко. Долго еще будут ощущаться последствия этих дней. Много пройдет десятилетий, пока возникнет нечто похожее на “Новый мир” этих лет. Многое должно сойтись, совпасть, чтобы снова появилось столь значительное явление – люди, эпоха, ожидания…
Проводили живого человека, неповторимую судьбу, и оттого грустно и тяжко порою чуть не до слез.
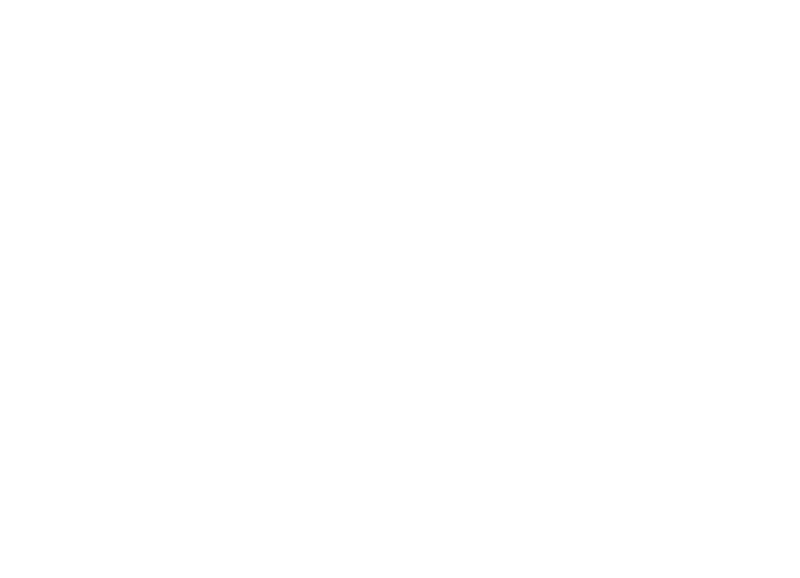
В редакции журнала "Новый мир", 11 февраля 1970 года. Источник: РГАЛИ
- Да разве можно вешать его портрет рядом с теми, кого он же и загубил.
10 мая 70 г.
Вчера – 25-летие победы.
Ветрено, пасмурно.
После обеда, к концу дня с Леной в городе, по улице Горького до Александровского сада, к могиле Неизвестного солдата, на Красную площадь и к Большому театру. Пожалуй, немноголюдно, – ощущение обычного выходного дня, только праздничное убранство города. Настроение спокойное, и совсем нет того, что чувствовалось в этот день пять лет назад – в двадцатилетие: электричество возбужденной толпы. В это день я сидел с Л. Кондратовичем в открытом кафе на углу Столешникова и Петровки, и мимо неслась Москва – стремительная, яркая круговерть, ощущение грубоватого жизнелюбия и милого тепла муравейника, – солнце, краски, и толпа, впитывающая этот ветреный майский день.
Нет, совсем не тот, не праздничный город.
На площади Пушкина – стенды с фотографиями революционных деятелей, и среди них – портрет Сталина. Небольшая кучка людей. Подходим. У портрета – возбужденный, рослый грузин, с грубоватым лицом, с плешью на наголо бритой голове. Шея налилась кровью. Он почти кричит:
– Кто так говорит, тот фашист, фашист может так говорить, фашист, фашист.
Спокойно и тихо ему отвечает, не глядя на него, щуплый, в кепке москвич:
– Да разве можно вешать его портрет рядом с теми, кого он же и загубил.
Толстомордый, в шляпе:
– Это ЦК так распорядилось… Пойдите вот – кивок на кинотеатр “Россия” – “Освобождение” посмотрите.
Грузин кричит, наступая уже на ноги:
– Если бы его не было, то немцы, немцы были бы здесь, здесь!
– Ну, нет, врете. Не он спас Москву, а народ. А он миллион людей загубил.
– Весь 17-й съезд сгноил в тюрьмах.
Женщина тихо грузину:
– Да нет семьи, которая бы не пострадала.
Мужчина, оттягивая ее за руку:
– Пойдем. Разговорились. Как в Гайд-парке.
Толпа растет. Грузин, сверкая глазами, отбивается.
– После смерти Наполеона его имя во Франции произносить нельзя было. А теперь – что? Наполеон – великий человек.
– Да, великий. Загубил французскую революцию, вот и великий.
– Нет, нет, вы скажите, кого он сгноил. Время было такое. Кругом враги. Можно быть мягкотелым?
– Тухачевский, Блюхер, Якир – тоже враги?
– А мы откуда знаем? Их судили.
Я говорю ему:
– Вот такие, как вы и судили.
Но это нисколько не задевает его.
– Ленин тоже не был добрый. Если бы Ленин дожил, то и он сажал бы. Думаете, добренький был? Надо руку иметь, нельзя быть добреньким, надо в руках держать.
Грузин явно не нравится никому со своей программой, но толпа соблюдает почти поразительную вежливость. Пожалуй, если бы он не кричал так и не шумел, и не сверкал глазами, то нашел бы и сочувствие. Но таких слишком шумных не любят.
– Все на XX съезде уже сказали ясно. Душегуб твой Сталин.
– А этого съезда скоро не будет, совсем не будет.
Подходит милиционер и тихо предлагает грузину уйти – не собирать толпу. Грузин, дергаясь и наливаясь краской, уходит. Под портретом Сталина карандашом написано “Слава Сталину!” и подчеркнуто черным чернилом.
Вчера – 25-летие победы.
Ветрено, пасмурно.
После обеда, к концу дня с Леной в городе, по улице Горького до Александровского сада, к могиле Неизвестного солдата, на Красную площадь и к Большому театру. Пожалуй, немноголюдно, – ощущение обычного выходного дня, только праздничное убранство города. Настроение спокойное, и совсем нет того, что чувствовалось в этот день пять лет назад – в двадцатилетие: электричество возбужденной толпы. В это день я сидел с Л. Кондратовичем в открытом кафе на углу Столешникова и Петровки, и мимо неслась Москва – стремительная, яркая круговерть, ощущение грубоватого жизнелюбия и милого тепла муравейника, – солнце, краски, и толпа, впитывающая этот ветреный майский день.
Нет, совсем не тот, не праздничный город.
На площади Пушкина – стенды с фотографиями революционных деятелей, и среди них – портрет Сталина. Небольшая кучка людей. Подходим. У портрета – возбужденный, рослый грузин, с грубоватым лицом, с плешью на наголо бритой голове. Шея налилась кровью. Он почти кричит:
– Кто так говорит, тот фашист, фашист может так говорить, фашист, фашист.
Спокойно и тихо ему отвечает, не глядя на него, щуплый, в кепке москвич:
– Да разве можно вешать его портрет рядом с теми, кого он же и загубил.
Толстомордый, в шляпе:
– Это ЦК так распорядилось… Пойдите вот – кивок на кинотеатр “Россия” – “Освобождение” посмотрите.
Грузин кричит, наступая уже на ноги:
– Если бы его не было, то немцы, немцы были бы здесь, здесь!
– Ну, нет, врете. Не он спас Москву, а народ. А он миллион людей загубил.
– Весь 17-й съезд сгноил в тюрьмах.
Женщина тихо грузину:
– Да нет семьи, которая бы не пострадала.
Мужчина, оттягивая ее за руку:
– Пойдем. Разговорились. Как в Гайд-парке.
Толпа растет. Грузин, сверкая глазами, отбивается.
– После смерти Наполеона его имя во Франции произносить нельзя было. А теперь – что? Наполеон – великий человек.
– Да, великий. Загубил французскую революцию, вот и великий.
– Нет, нет, вы скажите, кого он сгноил. Время было такое. Кругом враги. Можно быть мягкотелым?
– Тухачевский, Блюхер, Якир – тоже враги?
– А мы откуда знаем? Их судили.
Я говорю ему:
– Вот такие, как вы и судили.
Но это нисколько не задевает его.
– Ленин тоже не был добрый. Если бы Ленин дожил, то и он сажал бы. Думаете, добренький был? Надо руку иметь, нельзя быть добреньким, надо в руках держать.
Грузин явно не нравится никому со своей программой, но толпа соблюдает почти поразительную вежливость. Пожалуй, если бы он не кричал так и не шумел, и не сверкал глазами, то нашел бы и сочувствие. Но таких слишком шумных не любят.
– Все на XX съезде уже сказали ясно. Душегуб твой Сталин.
– А этого съезда скоро не будет, совсем не будет.
Подходит милиционер и тихо предлагает грузину уйти – не собирать толпу. Грузин, дергаясь и наливаясь краской, уходит. Под портретом Сталина карандашом написано “Слава Сталину!” и подчеркнуто черным чернилом.
Страница из дневника И. Крамова
9 мая 1970 года. Фотограф: Дмитрий Бальтерманц
9 мая 1970 года. Фотограф: Дмитрий Бальтерманц
24 мая 1970 г.
В Переделкино – за одним столом с Сергеем Залыгиным и его женой. Замкнутый, мало разговорчивый, почти безулыбчивый человек с неожиданной подвижностью лица и милой, почти детской отзывчивостью на заинтересовавший его рассказ – “переживает” лицо, смягчается и внимательные глаза следят с интересом и чуть издалека. Иногда рассказывает – все больше случаи из жизни – поездки, путешествия – Китай, Югославия, Сибирь – много виденного и рассказы сюжетные, писательские. И за всем этим – человек не московский, немного крестьянский – неотшлифованностью, скрытностью, сдержанностью.
Два дня назад – неожиданный разговор за ужином.
О Сталине:
Он освобождал от уважения к уму, к знанию, к интеллигентности. Несколько наивно З. рассказывает, как сам не раз испытывал: облегчение, освобождение в среде грубой, “своей”, снижающей человека – облегчение от снижения. Это процесс – психологический отбор упрощенного человеческого типа, воплощение которого – Сталин. Он развязал всегда дремлющее в человеке труда недоверие к интеллигентности и пр.
Тут много наивного, но верно вот что – социальный отбор дураков, столь последовательно проведенный, что среда “выкидывает” или не принимает чужака – интеллигента тотчас, как только он заявляет претензию на самостоятельное в ней существование.
Ему импонирует в революции тип Церетели (очень хвалит какую-то его речь или выступление).
Интересно (верно это из Бердяева) говорит о жертвенности русской интеллигенции в отношении народа как черте слабости: народ эту жертвенность может эксплуатировать, но верно никогда не поймет, и потому она вредна и понижает самосознание интеллигента (что-то вроде этого).
Этой же жертвенностью – как типовой русской чертой – З. объясняет поведение партийной интелигенции в 37-м году, отсутствие протеста, гипноз государственности и пр., отсутствие истинного самосознания. Русская интеллигенция никогда не была и ответственна за ход государственных дел – так случилось – она всегда была оппозицией, бунтом, и только кадеты брали на себя охотно государственное бремя. В них могло произойти “слияние” бюрократии государственной с интеллигенцией духовной (Ключевский, Милюков). Это не произошло – и такого опыта Россия вообще не получила. А жаль. Мысль З. в конце концов упирается в то общее, что сейчас разлито в воздухе – в культурную работу. Он говорит, что Россия имела самую передовую в Европе с/х науку (Докучаев, Вавилов), что шло накопление культурных богатств, которое могло бы привести к истинному расцвету. Вот что есть выражение нынешнего “веяния” – недоверие к насилию. Вечное насилие, прерывающее органическое развитие народной жизни – зло. К этому, в конце концов он приходит, – и отсюда его внимание к Чехову и работа о нем, и внутренняя симпатия к культурной деятельности кадетского типа и пр. Удивительное превращение. Глубокая усталость общества и время малых дел выражены тут так очевидно. От революции, владевшей воображением и умами, общество отходит к “натуре”, “природе”, первоосновам, и тип культурного деятеля вырисовывается как воплощение нового идеала. Так совершив свой крестный путь, общество возвращается к тем рубежам, от которых устремлялось, очертя голову, в небывальщину революции.
Неужели за этот опыт нужно было заплатить такой кровью, таким страданием? И все же – это сомнение, этот аналитический ход мысли – благотворны и признак жизни, движения, не смертельного застоя. Пусть будет новое поколение – не приведет ли оно со временем, когда вызреют новые душевные силы к новому порыву? В этом круговращении есть великая грусть. И сила стихий – той природной жизни, стоящей, как Бог, над человеком, его усилиями и надеждами. Сама жизнь есть Бог, – недостижимость, неохватность, вечность, склоняющаяся с улыбкой над тщетой прекрасного человеческого порыва ввысь.
В Переделкино – за одним столом с Сергеем Залыгиным и его женой. Замкнутый, мало разговорчивый, почти безулыбчивый человек с неожиданной подвижностью лица и милой, почти детской отзывчивостью на заинтересовавший его рассказ – “переживает” лицо, смягчается и внимательные глаза следят с интересом и чуть издалека. Иногда рассказывает – все больше случаи из жизни – поездки, путешествия – Китай, Югославия, Сибирь – много виденного и рассказы сюжетные, писательские. И за всем этим – человек не московский, немного крестьянский – неотшлифованностью, скрытностью, сдержанностью.
Два дня назад – неожиданный разговор за ужином.
О Сталине:
Он освобождал от уважения к уму, к знанию, к интеллигентности. Несколько наивно З. рассказывает, как сам не раз испытывал: облегчение, освобождение в среде грубой, “своей”, снижающей человека – облегчение от снижения. Это процесс – психологический отбор упрощенного человеческого типа, воплощение которого – Сталин. Он развязал всегда дремлющее в человеке труда недоверие к интеллигентности и пр.
Тут много наивного, но верно вот что – социальный отбор дураков, столь последовательно проведенный, что среда “выкидывает” или не принимает чужака – интеллигента тотчас, как только он заявляет претензию на самостоятельное в ней существование.
Ему импонирует в революции тип Церетели (очень хвалит какую-то его речь или выступление).
Интересно (верно это из Бердяева) говорит о жертвенности русской интеллигенции в отношении народа как черте слабости: народ эту жертвенность может эксплуатировать, но верно никогда не поймет, и потому она вредна и понижает самосознание интеллигента (что-то вроде этого).
Этой же жертвенностью – как типовой русской чертой – З. объясняет поведение партийной интелигенции в 37-м году, отсутствие протеста, гипноз государственности и пр., отсутствие истинного самосознания. Русская интеллигенция никогда не была и ответственна за ход государственных дел – так случилось – она всегда была оппозицией, бунтом, и только кадеты брали на себя охотно государственное бремя. В них могло произойти “слияние” бюрократии государственной с интеллигенцией духовной (Ключевский, Милюков). Это не произошло – и такого опыта Россия вообще не получила. А жаль. Мысль З. в конце концов упирается в то общее, что сейчас разлито в воздухе – в культурную работу. Он говорит, что Россия имела самую передовую в Европе с/х науку (Докучаев, Вавилов), что шло накопление культурных богатств, которое могло бы привести к истинному расцвету. Вот что есть выражение нынешнего “веяния” – недоверие к насилию. Вечное насилие, прерывающее органическое развитие народной жизни – зло. К этому, в конце концов он приходит, – и отсюда его внимание к Чехову и работа о нем, и внутренняя симпатия к культурной деятельности кадетского типа и пр. Удивительное превращение. Глубокая усталость общества и время малых дел выражены тут так очевидно. От революции, владевшей воображением и умами, общество отходит к “натуре”, “природе”, первоосновам, и тип культурного деятеля вырисовывается как воплощение нового идеала. Так совершив свой крестный путь, общество возвращается к тем рубежам, от которых устремлялось, очертя голову, в небывальщину революции.
Неужели за этот опыт нужно было заплатить такой кровью, таким страданием? И все же – это сомнение, этот аналитический ход мысли – благотворны и признак жизни, движения, не смертельного застоя. Пусть будет новое поколение – не приведет ли оно со временем, когда вызреют новые душевные силы к новому порыву? В этом круговращении есть великая грусть. И сила стихий – той природной жизни, стоящей, как Бог, над человеком, его усилиями и надеждами. Сама жизнь есть Бог, – недостижимость, неохватность, вечность, склоняющаяся с улыбкой над тщетой прекрасного человеческого порыва ввысь.
Страница из дневника И. Крамова
Залыгин Сергей Павлович. Источник: rossianca.livejournal.com
Залыгин Сергей Павлович. Источник: rossianca.livejournal.com
6 января 71 г.
Вчера на ул. Горького встретил Таню Литвинову (дочь Литвинова). Отправляла теплые носки своему племяннику Павлу в ссылку. Провожал ее. Пригласил зайти, чай попить.
Разговор – сразу – о том, что побывала осенью этой на Кавказе.
2 марта 71 г.
Из разговора с М. А. Платоновой – жалуется на то, что выбрасывают то одно, то другое.
Раз спросили Платонова:
– Как живете.
– Терпежом живу. Это звучит некрасиво, но очень верно.
23 февраля была по телевидению передача – новая книга Платонова.
М. А. произносила что-то – хотела дать выдержки из писем Платонова – что-то о том, что фашизм убивает, хочет убить синюю птицу человечества, но она не дается ему, улетает, гибнут воробышки…
Или о том, что после войны нужно будет построить храм в честь победителей, и в память жертв, и на стенах его записать имена погибших.
Или о том, что на кладбище страшно, потому что тут думаешь о людях, которые недолюбили, недовершили и пр. А каков был бы мир, если бы эти люди все им отпущенное свершили. Во всех этих мыслях виден Платонов – романтик.
Все эти мысли – выбросили.
4.VIII.71. Дорохово.
Когда бы я не пришел, я застаю Марию Александровну Платонову за столом, на котором разложены рукописи и книги Андрея Платонова. Грузная женщина, с крупным лицом, на котором видны красивые серые глаза, тонкие подведенные высокие брови, упрямый подбородок. Крупные сильные руки перебирают бумаги, книги, она говорит, говорит, смотрит издалека, недоверчиво и, кажется, враждебно, и ты начинаешь понимать, что ты здоров, у тебя дом, друзья, посидишь и уйдешь, закуришь, вздохнешь с облегчением, а тут останутся сидеть над пожелтевшими страницами, наедине с тенями и видениями, от которых должно быть страшно.
Вчера на ул. Горького встретил Таню Литвинову (дочь Литвинова). Отправляла теплые носки своему племяннику Павлу в ссылку. Провожал ее. Пригласил зайти, чай попить.
Разговор – сразу – о том, что побывала осенью этой на Кавказе.
2 марта 71 г.
Из разговора с М. А. Платоновой – жалуется на то, что выбрасывают то одно, то другое.
Раз спросили Платонова:
– Как живете.
– Терпежом живу. Это звучит некрасиво, но очень верно.
23 февраля была по телевидению передача – новая книга Платонова.
М. А. произносила что-то – хотела дать выдержки из писем Платонова – что-то о том, что фашизм убивает, хочет убить синюю птицу человечества, но она не дается ему, улетает, гибнут воробышки…
Или о том, что после войны нужно будет построить храм в честь победителей, и в память жертв, и на стенах его записать имена погибших.
Или о том, что на кладбище страшно, потому что тут думаешь о людях, которые недолюбили, недовершили и пр. А каков был бы мир, если бы эти люди все им отпущенное свершили. Во всех этих мыслях виден Платонов – романтик.
Все эти мысли – выбросили.
4.VIII.71. Дорохово.
Когда бы я не пришел, я застаю Марию Александровну Платонову за столом, на котором разложены рукописи и книги Андрея Платонова. Грузная женщина, с крупным лицом, на котором видны красивые серые глаза, тонкие подведенные высокие брови, упрямый подбородок. Крупные сильные руки перебирают бумаги, книги, она говорит, говорит, смотрит издалека, недоверчиво и, кажется, враждебно, и ты начинаешь понимать, что ты здоров, у тебя дом, друзья, посидишь и уйдешь, закуришь, вздохнешь с облегчением, а тут останутся сидеть над пожелтевшими страницами, наедине с тенями и видениями, от которых должно быть страшно.
Павел Литвинов в ссылке. Источник: Радио Свобода
Кабинет андрея Платонова. Источник: sv-scena.ru
Кабинет андрея Платонова. Источник: sv-scena.ru
8.VIII. Дорохово.
Когда мы говорим о нашей литературе 20-х и 30-х годов, (мы вынуждены сопоставить ее с социальной народной жизнью того времени, с преступлениями сталинского режима – и это в самом прямом и конкретном смысле). Понимала ли литература действительность, внутри которой действовала, имела ли свое суждение о ней, стремилась ли представить суть и смысл происходящего, и – главное – имела ли нравственную меру, или потеряла ее? И это можно ощутить, понять не только в том случае, когда писатель прямо берет сюжет и материал из реальности тирании, убийств и тюрем. Попытка Малышкина дать тип новой опричнины, или прямое публицистическое осуждение ее в “Мы” Замятина, или платоновский ужас перед палачом в “Епифанских шлюзах”, или невозможность подчиниться Мандельштама, и пастернаковская нежность, и гордость Ахматовой, и бабелевский ум, – все это сюда, все это знаки и проявления сопротивляющегося и взыскующего духа. И скажут они о жизни гораздо больше, чем наши “эпические полотна”, – тут преемственность, “продолжение рода”, жизнь, движение.
22.VIII. Дорохово.
Историки грядущих лет, обращаясь к нашему времени, найдут тот рубеж, за которым началось это духовное оскудение, усталость, болотное гниение и застой нынешней нашей жизни – и этим рубежом будет вступление наших войск в Чехословакию три года назад – в августе 68-го. Грубая сила доказала неопровержимость своего довода – и свет не померк, земля не разверзлась, небеса не дрогнули, и перед зрелищем столь явственного насилия приходилось признать всю ограниченность “очистительной” работы русской интеллигенции и неосуществимость ее надежд. Огромным напряжением духовных сил воздвигалось на развалинах сталинского режима нечто новое, – по крупицам, по камешкам собиралось, и верным инстинктом решалось, что только переболев, только поняв гибельность и ужасающую греховность прошлого, только казнив в себе заблуждения, ошибки и порочную слепоту – можно начать снова, с верою в материнскую оплодотворяющую силу исторического опыта. В сущности, это движение, на первый взгляд негативистское, отрицающее, было глубоко позитивным и идеальным по целям.
Когда мы говорим о нашей литературе 20-х и 30-х годов, (мы вынуждены сопоставить ее с социальной народной жизнью того времени, с преступлениями сталинского режима – и это в самом прямом и конкретном смысле). Понимала ли литература действительность, внутри которой действовала, имела ли свое суждение о ней, стремилась ли представить суть и смысл происходящего, и – главное – имела ли нравственную меру, или потеряла ее? И это можно ощутить, понять не только в том случае, когда писатель прямо берет сюжет и материал из реальности тирании, убийств и тюрем. Попытка Малышкина дать тип новой опричнины, или прямое публицистическое осуждение ее в “Мы” Замятина, или платоновский ужас перед палачом в “Епифанских шлюзах”, или невозможность подчиниться Мандельштама, и пастернаковская нежность, и гордость Ахматовой, и бабелевский ум, – все это сюда, все это знаки и проявления сопротивляющегося и взыскующего духа. И скажут они о жизни гораздо больше, чем наши “эпические полотна”, – тут преемственность, “продолжение рода”, жизнь, движение.
22.VIII. Дорохово.
Историки грядущих лет, обращаясь к нашему времени, найдут тот рубеж, за которым началось это духовное оскудение, усталость, болотное гниение и застой нынешней нашей жизни – и этим рубежом будет вступление наших войск в Чехословакию три года назад – в августе 68-го. Грубая сила доказала неопровержимость своего довода – и свет не померк, земля не разверзлась, небеса не дрогнули, и перед зрелищем столь явственного насилия приходилось признать всю ограниченность “очистительной” работы русской интеллигенции и неосуществимость ее надежд. Огромным напряжением духовных сил воздвигалось на развалинах сталинского режима нечто новое, – по крупицам, по камешкам собиралось, и верным инстинктом решалось, что только переболев, только поняв гибельность и ужасающую греховность прошлого, только казнив в себе заблуждения, ошибки и порочную слепоту – можно начать снова, с верою в материнскую оплодотворяющую силу исторического опыта. В сущности, это движение, на первый взгляд негативистское, отрицающее, было глубоко позитивным и идеальным по целям.
Документ ЦК КПСС. Источник: bessmertnybarak.ru
...а на следующий день пошли утром опохмелиться, выпили в “Якоре” по сто грамм, вышли и посчитав мелочь, вдруг решили сфотографироваться, перешли улицу и сфотографировались.
23-го в Москве – с Викой. Созвонились вечера, условились встретиться утром, и встретились у метро “Белорусская”, у последнего вагона поезда, идущего с Речного вокзала (Вика остановился у Аси). Ровно в 11 ч.30 м. – как условились – я на месте, подходит поезд метро и я вижу через стекло постаревшее лицо, не то смуглое от загара, не то потемневшее от времени, как темнеют от времени вещи. Что-то прежнее на минуту вспыхивает в глазах Вики – радость встречи – и он показывает оживленно – на часы: точность.
– Я всегда, как идиот точен – не умею, если и хочу опоздать.
– Да, ты точен, но вот поезд почему точен?
Мы сходим на Маяковской и идем не торопясь, вразвалку, как ходили раньше. Все время не оставляет это – “как раньше”, когда было легко, радостно, просто. Вика, “как раньше” рассматривает, задрав голову, мозаики Дейнеки:
– Кому это нужно, а? Ты когда-нибудь смотрел на эти картины?... Голову свернешь. Для чего человек работал, а? Смотри, смотри, ничего вещи, а?
Это прежний тон, прежняя Викина музыка. Ирония, и начало того смотрения по сторонам, того растворения и беспрограммного текучего разговора, который был для меня всегда прелестью этих встреч.
Мы едем троллейбусом в учреждение, где выдают сертификаты – кажется, какой-то банк, на Кутузовский проспект. Вика должен получить что-то около сорока рублей – остаток за изданную в Италии книгу, договор на которую много лет назад заключил с издателем.
Летний, солнечный день, – тепло, и что-то уже от осени – в свете, в ветерке, в запахах. Вика идет, опустив голову – в своих обычных летних полотняных брюках, в немного нелепой серой рубахе, в черном дождевике (утром было пасмурно), тоже нелепом. Рассказывает, как в Киеве, ранним утром, часам к семи приезжает на пляж, купается, греется на солнце – один на весь пляж, и от этого его одиночества, которое чувствую, становится грустно и тяжело. В нем – усталость и что-то отошедшее, свое, грустное… В день его приезда я сказал ему: … и голос у тебя грустный.
– А отчего ему быть веселым?
Деньги получить не удается – нужна какая-то, неведомо от кого, справка о том, какие именно произведения опубликовали, за что деньги. Смысл: чтобы не получилось так, что деньги переделены и получены за что-то антисоветское, что-ли. Звоним в Управление по охране авторских прав, в Министерство финансов, что-то выясняем, тем временем – обед. Идем к Лунгиным.
Вспоминает как в июле 60 г., Вика приехал из Чехословакии, пришел ко мне – с подарком, с чешским стеклом, и с гостем, писателем из Праги и мы пили в пустой квартире (все на даче), и чешский писатель упился до безобразия и мы бегали на Белорусский за водкой, а на следующий день пошли утром опохмелиться, выпили в “Якоре” по сто грамм, вышли и посчитав мелочь, вдруг решили сфотографироваться, перешли улицу и сфотографировались. Эта фотография – Вика молодой, черноволосый, худощавый, со щеточкой аккуратных усов и я – в ковбойке, опухший слегка от водки – в Киеве лежит у него под стеклом.
– Я всегда, как идиот точен – не умею, если и хочу опоздать.
– Да, ты точен, но вот поезд почему точен?
Мы сходим на Маяковской и идем не торопясь, вразвалку, как ходили раньше. Все время не оставляет это – “как раньше”, когда было легко, радостно, просто. Вика, “как раньше” рассматривает, задрав голову, мозаики Дейнеки:
– Кому это нужно, а? Ты когда-нибудь смотрел на эти картины?... Голову свернешь. Для чего человек работал, а? Смотри, смотри, ничего вещи, а?
Это прежний тон, прежняя Викина музыка. Ирония, и начало того смотрения по сторонам, того растворения и беспрограммного текучего разговора, который был для меня всегда прелестью этих встреч.
Мы едем троллейбусом в учреждение, где выдают сертификаты – кажется, какой-то банк, на Кутузовский проспект. Вика должен получить что-то около сорока рублей – остаток за изданную в Италии книгу, договор на которую много лет назад заключил с издателем.
Летний, солнечный день, – тепло, и что-то уже от осени – в свете, в ветерке, в запахах. Вика идет, опустив голову – в своих обычных летних полотняных брюках, в немного нелепой серой рубахе, в черном дождевике (утром было пасмурно), тоже нелепом. Рассказывает, как в Киеве, ранним утром, часам к семи приезжает на пляж, купается, греется на солнце – один на весь пляж, и от этого его одиночества, которое чувствую, становится грустно и тяжело. В нем – усталость и что-то отошедшее, свое, грустное… В день его приезда я сказал ему: … и голос у тебя грустный.
– А отчего ему быть веселым?
Деньги получить не удается – нужна какая-то, неведомо от кого, справка о том, какие именно произведения опубликовали, за что деньги. Смысл: чтобы не получилось так, что деньги переделены и получены за что-то антисоветское, что-ли. Звоним в Управление по охране авторских прав, в Министерство финансов, что-то выясняем, тем временем – обед. Идем к Лунгиным.
Вспоминает как в июле 60 г., Вика приехал из Чехословакии, пришел ко мне – с подарком, с чешским стеклом, и с гостем, писателем из Праги и мы пили в пустой квартире (все на даче), и чешский писатель упился до безобразия и мы бегали на Белорусский за водкой, а на следующий день пошли утром опохмелиться, выпили в “Якоре” по сто грамм, вышли и посчитав мелочь, вдруг решили сфотографироваться, перешли улицу и сфотографировались. Эта фотография – Вика молодой, черноволосый, худощавый, со щеточкой аккуратных усов и я – в ковбойке, опухший слегка от водки – в Киеве лежит у него под стеклом.
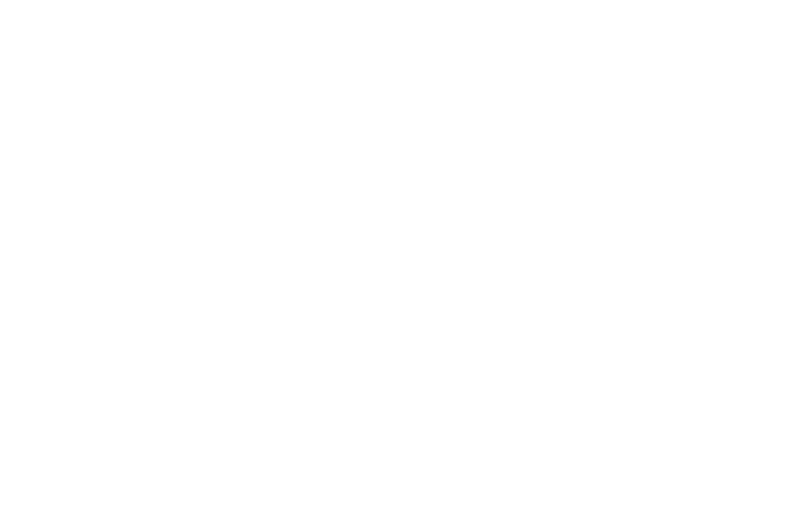
Виктор Некрасов и Исаак Крамов. Июль, 1960 г. Источник: nekrassov-viktor.com
17 сентября 73. Ялта.
Петр Васильевич Палиевский – моложавый человек сорока лет, с лицом хорошеньким скорее, чем красивым – правильные черты, пробор, голубые глаза под уже набрякающими веками. Эти глаза могут быть белыми от злобы
и бешенства, как было при нашем прощании, когда я сказал:
– Надеюсь, Вам будет о чем подумать в дороге.
– И Вам – тоже.
Любимые ругательные словечки его – “либерал”,” интеллигентское”,” Новый мир” – орган либерала, интеллигентничающий и пр. Твардовский – бездарный поэт, которого через десять лет никто не будет читать, подставное лицо, прикрывающий всяких либеральничающих гадов вроде, скажем, Синявского – для таких вот Синявских и создан был “Новый мир”. Лакшин – прогрессивный карьерист, Виноградов – тупица, желающий командовать общественным мнением. Сац – самый умный, самый хитрый, ученый еврей при губернаторе, точно знающий, чего он хочет, Коминтерновского направления и пр.
Ненависть утробная, незнакомая мне до сих пор, к журналу. Но это еще не разговор, не главное. А главное – вот.
Сталин – Наполеон русской революции. Человек огромного ума и необыкновенных способностей провести задуманное. Он сделал великое дело – уничтожил всю эту коминтерновскую шваль (“ненавижу их”). Всех этих – Зиновьевых, Радеков, их надо было раздавить, и Сталин сделал это – 37-й год был благом. Он очистил Россию от тех, кто хотел командовать им, от всей этой пены революции. Кто такой Мейерхольд? Ненавижу эту каналью, этого Маяковского, Брик, их компанию. Правда, Сталин Маяковского поднял. Неважно. Но тех, кого он уничтожил – те этого заслужили. Он спас от них Россию. Когда-то в детстве я тоже смеялся над этим Андреевым – помните этого спотыкающегося в “Падении Берлина”, этого дурака. Вы говорите – социальный отбор дураков – вот и хорошо, это корень, ядро, то, что нужно, чтобы строить дальше. Вот этих Сталин призвал – и хорошо. Они создают устойчивость, без них все стало бы добычей интеллигенции, либералов, а они – то и есть первейшее зло и гибель. Вышли на поверхность такие люди, как Жуков – они стали костяком общества. А тех, кого убрали – другого способа не было. Это были враги Сталина и он должен был их убрать, всю эту “Коминтерновскую шайку.” Зато после этого все стало постепенно успокаиваться, и сейчас приобретает стабильность, – и надолго. Волнение улеглось, или вернее, скоро уляжется.
Сдавленным шепотом (все говорится тихо, шепотком, на ухо).
Сталин создал империю.
Вот это, наверное, главнейшее из того, что он может сказать о Сталине. Огромная империя на крови, созданная Сталиным – величие России. Но еще более важная, но глубоко затаенная мысль, в которой он никогда не признается:
Сталин (в конечном итоге) пришел и расчистил почву для нас – для него и его единомышленников, людей “истинно русских”. Вот историческая миссия Сталина – уничтожить нечисть, пролить кровь, стать палачом, явившимся для черной работы. Очищение почвы. А сейчас придем мы – и сядем на очищенное для нас место (воссоздадим преемственность русской жизни и т.д.). Самое поразительное – это полная и бестрепетная готовность пролить кровь всех тех, кого “ненавижу” – писателей, поэтов, особенно “Коминтерновской сволочи”, всех деятелей революции, – всей этой “троцкистской банде” с ее идеей мировой революции и т.д. Та же мечта рейха. То же презрение к “прогнившим либералам”. Народ – быдло и чем глупее, тем лучше. Глупость, ограниченность – основа нравственного здоровья.
Петр Васильевич Палиевский – моложавый человек сорока лет, с лицом хорошеньким скорее, чем красивым – правильные черты, пробор, голубые глаза под уже набрякающими веками. Эти глаза могут быть белыми от злобы
и бешенства, как было при нашем прощании, когда я сказал:
– Надеюсь, Вам будет о чем подумать в дороге.
– И Вам – тоже.
Любимые ругательные словечки его – “либерал”,” интеллигентское”,” Новый мир” – орган либерала, интеллигентничающий и пр. Твардовский – бездарный поэт, которого через десять лет никто не будет читать, подставное лицо, прикрывающий всяких либеральничающих гадов вроде, скажем, Синявского – для таких вот Синявских и создан был “Новый мир”. Лакшин – прогрессивный карьерист, Виноградов – тупица, желающий командовать общественным мнением. Сац – самый умный, самый хитрый, ученый еврей при губернаторе, точно знающий, чего он хочет, Коминтерновского направления и пр.
Ненависть утробная, незнакомая мне до сих пор, к журналу. Но это еще не разговор, не главное. А главное – вот.
Сталин – Наполеон русской революции. Человек огромного ума и необыкновенных способностей провести задуманное. Он сделал великое дело – уничтожил всю эту коминтерновскую шваль (“ненавижу их”). Всех этих – Зиновьевых, Радеков, их надо было раздавить, и Сталин сделал это – 37-й год был благом. Он очистил Россию от тех, кто хотел командовать им, от всей этой пены революции. Кто такой Мейерхольд? Ненавижу эту каналью, этого Маяковского, Брик, их компанию. Правда, Сталин Маяковского поднял. Неважно. Но тех, кого он уничтожил – те этого заслужили. Он спас от них Россию. Когда-то в детстве я тоже смеялся над этим Андреевым – помните этого спотыкающегося в “Падении Берлина”, этого дурака. Вы говорите – социальный отбор дураков – вот и хорошо, это корень, ядро, то, что нужно, чтобы строить дальше. Вот этих Сталин призвал – и хорошо. Они создают устойчивость, без них все стало бы добычей интеллигенции, либералов, а они – то и есть первейшее зло и гибель. Вышли на поверхность такие люди, как Жуков – они стали костяком общества. А тех, кого убрали – другого способа не было. Это были враги Сталина и он должен был их убрать, всю эту “Коминтерновскую шайку.” Зато после этого все стало постепенно успокаиваться, и сейчас приобретает стабильность, – и надолго. Волнение улеглось, или вернее, скоро уляжется.
Сдавленным шепотом (все говорится тихо, шепотком, на ухо).
Сталин создал империю.
Вот это, наверное, главнейшее из того, что он может сказать о Сталине. Огромная империя на крови, созданная Сталиным – величие России. Но еще более важная, но глубоко затаенная мысль, в которой он никогда не признается:
Сталин (в конечном итоге) пришел и расчистил почву для нас – для него и его единомышленников, людей “истинно русских”. Вот историческая миссия Сталина – уничтожить нечисть, пролить кровь, стать палачом, явившимся для черной работы. Очищение почвы. А сейчас придем мы – и сядем на очищенное для нас место (воссоздадим преемственность русской жизни и т.д.). Самое поразительное – это полная и бестрепетная готовность пролить кровь всех тех, кого “ненавижу” – писателей, поэтов, особенно “Коминтерновской сволочи”, всех деятелей революции, – всей этой “троцкистской банде” с ее идеей мировой революции и т.д. Та же мечта рейха. То же презрение к “прогнившим либералам”. Народ – быдло и чем глупее, тем лучше. Глупость, ограниченность – основа нравственного здоровья.
Страница из дневника И. Крамова
Петр Палиевский. Источник: bookree.org
Петр Палиевский. Источник: bookree.org
7 янв. 74 г.
Вчера у М. А. Платоновой.
Она переезжает на новую квартиру – после многолетней борьбы за то, чтобы остаться здесь, в старой, где прожита жизнь.
Страшная жизнь кусками падает как камни из ее рассказов и душа сжимается, прикасаясь к чему-то почти нечеловечески тяжкому.
Платонов говорил – еще до войны – жить не хочется. Умереть надо. Не хочется жить под Сталиным и Фадеевым.
Эти двое постоянно с ним, как тень. На всем его пути.
На “Впроке” Сталин написал: “Сволочь.”
После этого – уже почти до конца – ожидание ареста, тюрьмы, пыток, гибели. Фадеев, после разговора со Сталиным приехал к Платонову с книжкой “Красной Нови” дрожал, зубы дрожали:
– Сейчас мне Сталин два часа из-за тебя выволакивал.
Потом Платонову говорили:
– Тебя шпокнут.
Именно так: “шпокнут”.
Фадеев исчез надолго, и все же, говорит М. А.:
– Думаю, что это Сашка спас, что не арестовали (т.е. Фадеев). Что-то в нем было… Любил Платонова.
Когда Платонов прочитал в “Правде” статью Фадеева о рассказе “Семья Ивановых” – у него полилась кровь горлом, начался кровавый понос. Едва удалось спасти.
Что-то мистическое связано с Платоновым. (говорит М. А.). Когда кровь горлом пошла, я заметалась, вижу в окно – идет знакомый врач гомеопат, выбежала на улицу, завела в дом. Она лечил меня от экземы на лице (после ареста сына). Взялась лечить Платонова. И спасла – он прожил еще три года.
В тот день, когда кровь пошла, вечером внезапно пришел Шолохов. На следующий день пошел к Фадееву, рассказал, что видел. Фадеев заплакал, схватился руками за голову, и – выписал 10 тыс. рублей через Литфонд – для Платонова.
За несколько дней до смерти своей, до самоубийства, Фадеев пришел на бульвар к дому Платонова. М. А. с Машей сидела на бульваре. Фадеев ходил сзади скамейки туда-обратно, туда-обратно – не подходил. М. А. сидела – будто не замечает. Так и не подошел. Встречаясь с Фадеевым М. А. говорила ему: “Сволочь. Сволочь.” Тихо. В лицо. Скорее всего мысленно, конечно. Но М. А. произносит это “сволочь” глухим шепотом, с неостывшим гневом.
Вчера у М. А. Платоновой.
Она переезжает на новую квартиру – после многолетней борьбы за то, чтобы остаться здесь, в старой, где прожита жизнь.
Страшная жизнь кусками падает как камни из ее рассказов и душа сжимается, прикасаясь к чему-то почти нечеловечески тяжкому.
Платонов говорил – еще до войны – жить не хочется. Умереть надо. Не хочется жить под Сталиным и Фадеевым.
Эти двое постоянно с ним, как тень. На всем его пути.
На “Впроке” Сталин написал: “Сволочь.”
После этого – уже почти до конца – ожидание ареста, тюрьмы, пыток, гибели. Фадеев, после разговора со Сталиным приехал к Платонову с книжкой “Красной Нови” дрожал, зубы дрожали:
– Сейчас мне Сталин два часа из-за тебя выволакивал.
Потом Платонову говорили:
– Тебя шпокнут.
Именно так: “шпокнут”.
Фадеев исчез надолго, и все же, говорит М. А.:
– Думаю, что это Сашка спас, что не арестовали (т.е. Фадеев). Что-то в нем было… Любил Платонова.
Когда Платонов прочитал в “Правде” статью Фадеева о рассказе “Семья Ивановых” – у него полилась кровь горлом, начался кровавый понос. Едва удалось спасти.
Что-то мистическое связано с Платоновым. (говорит М. А.). Когда кровь горлом пошла, я заметалась, вижу в окно – идет знакомый врач гомеопат, выбежала на улицу, завела в дом. Она лечил меня от экземы на лице (после ареста сына). Взялась лечить Платонова. И спасла – он прожил еще три года.
В тот день, когда кровь пошла, вечером внезапно пришел Шолохов. На следующий день пошел к Фадееву, рассказал, что видел. Фадеев заплакал, схватился руками за голову, и – выписал 10 тыс. рублей через Литфонд – для Платонова.
За несколько дней до смерти своей, до самоубийства, Фадеев пришел на бульвар к дому Платонова. М. А. с Машей сидела на бульваре. Фадеев ходил сзади скамейки туда-обратно, туда-обратно – не подходил. М. А. сидела – будто не замечает. Так и не подошел. Встречаясь с Фадеевым М. А. говорила ему: “Сволочь. Сволочь.” Тихо. В лицо. Скорее всего мысленно, конечно. Но М. А. произносит это “сволочь” глухим шепотом, с неостывшим гневом.
Андрей Платонов с женой Марией Александровной. Источник: svoboda.org
Александр Фадеев. Источник: culture.ru
Александр Фадеев. Источник: culture.ru
– Я уверена, что когда-нибудь в Москве будет площадь Солженицына и проспект имени Сахарова.
Переделкино. 8 марта 74 г.
Вчера вечером у Бабёнышевой – Лева Копелев, Рая Орлова, Лидия Корнеевна Чуковская
Разговариваем о Некрасове. Какое право имели отбирать у писателя рукописи его произведений? Довольно странно говорить о правах – и все-таки: значит можно отбирать у писателя его блокноты, черновики, рукописи (и пр.). Лидия Корнеевна слушает, слепо опустив голову.
– Вот этого бы я не смогла выдержать – допрос с 8 утра до 7 вечера с перерывом на обед. Самое большое могу выдержать минут 40-50 наряженного разговора, потом голова устает, мысли путаются.
Она рассказывает, что на совещании, где ее исключали, она плохо видела, кто говорит, и когда говорил Катаев, она спросила: Кто это? и ей удивленно ответили: – Да это же Катаев.
Лесючевский читал ее письма и возмущался:
– Нет, вы подумайте, что она пишет, это же призыв к бунту. – Что же это такое…
Утешал его Жуков.
– Не волнуйтесь, Николай Васильевич, не принимайте близко к сердцу – и что-то еще, вроде того, что мы войну выиграли, фашизм одолели, одолеем и это.
Л.К. говорит, что не может найти форму, чтобы записать все это, чтобы передать юмор этих разговоров.
– Я уверена, что когда-нибудь в Москве будет площадь Солженицына и проспект имени Сахарова.
Вчера вечером у Бабёнышевой – Лева Копелев, Рая Орлова, Лидия Корнеевна Чуковская
Разговариваем о Некрасове. Какое право имели отбирать у писателя рукописи его произведений? Довольно странно говорить о правах – и все-таки: значит можно отбирать у писателя его блокноты, черновики, рукописи (и пр.). Лидия Корнеевна слушает, слепо опустив голову.
– Вот этого бы я не смогла выдержать – допрос с 8 утра до 7 вечера с перерывом на обед. Самое большое могу выдержать минут 40-50 наряженного разговора, потом голова устает, мысли путаются.
Она рассказывает, что на совещании, где ее исключали, она плохо видела, кто говорит, и когда говорил Катаев, она спросила: Кто это? и ей удивленно ответили: – Да это же Катаев.
Лесючевский читал ее письма и возмущался:
– Нет, вы подумайте, что она пишет, это же призыв к бунту. – Что же это такое…
Утешал его Жуков.
– Не волнуйтесь, Николай Васильевич, не принимайте близко к сердцу – и что-то еще, вроде того, что мы войну выиграли, фашизм одолели, одолеем и это.
Л.К. говорит, что не может найти форму, чтобы записать все это, чтобы передать юмор этих разговоров.
– Я уверена, что когда-нибудь в Москве будет площадь Солженицына и проспект имени Сахарова.
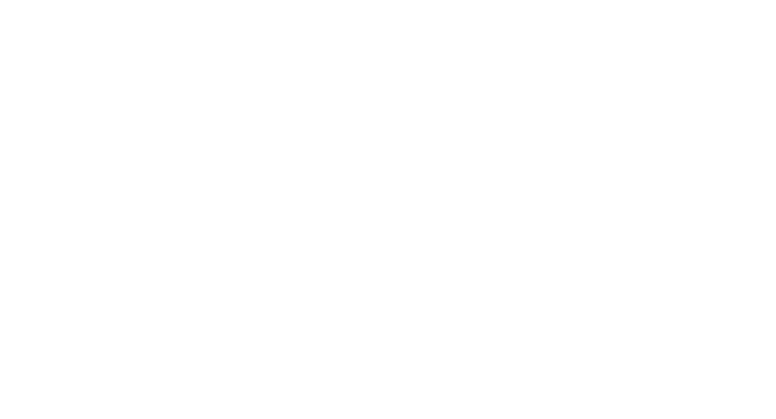
Лидия Корнеевна Чуковская
12 марта 74. Переделкино.
Сегодня днем зашел А. Рыбаков – (говорили о его “Детях Арбата”) и рассказал, что слушал по шведскому радио заявление В. Некрасова. Только что содержание этого заявления передало Би-би-си: Известный советский писатель, автор “Окопов Сталинграда” сделал заявление о положении писателей в Советском Союзе. Лишены возможности говорить правду. Что у него был сделан обыск и изъята рукопись и литографии подготовлявшейся им книги о Бабьем Яре. Что его побуждали выступить против С. и С., двух замечательных патриотов и пр. До сих пор, сказано в передаче, Некрасов не принадлежал к кругу диссидентов, и не делал никаких заявлений.
13.III. 74.
Вчера в 8 ч. “Г. А.” Передал отклик прессы на письмо Некрасова. В. Н. заявил, что ему было сказано, что он должен определиться – время сказать – по какую он сторону баррикад, предложено выступить против С. и С. Но пусть читатель лучше останется без моих книг, – я никогда не думал, что возможно включится в постыдную компанию клеветы против двух лучших людей России и т.д.
Страна останется без талантов (кроме писателей упомянуты ученые). Следователи КГБ не пишут книг. Кто же у нас останется?
Дальше шаткие сведения о Н.
“По обе стороны океана” очерк, подвергшийся критике за благожелательное отношение к Америке”.
В 69 г. опять опала за подпись под письмом отмечающим 29 годовщину Бабьего Яра.
Обыск в январе 74 по “делу 62”. Что за дело не объяснили. Все приходящие подвергались обыску. Конфискация рукописей.
23.III.74.
Вчера – как было условлено три дня назад, когда я говорил с ним, вернувшись из Переделкино по телефону – я ждал Вику и Галю.
С утра позвонил на квартиру, где он остановился, чтобы узнать, придут ли, и телефон не ответил и до середины дня не отвечал, а потом сняла трубку Наташа – жена Влада Заманского:
- Виктор Платонович сегодня утром вылетел в Киев.
- ?
- Да. Утром пришел милиционер и еще один в штатском, спросили, на каком основании живет без прописки и предложили немедленно выехать (или вылететь – как угодно) по месту жительства.
Подождали, пока соберутся и повезли в аэропорт и сопроводили до самолета.
Сегодня днем зашел А. Рыбаков – (говорили о его “Детях Арбата”) и рассказал, что слушал по шведскому радио заявление В. Некрасова. Только что содержание этого заявления передало Би-би-си: Известный советский писатель, автор “Окопов Сталинграда” сделал заявление о положении писателей в Советском Союзе. Лишены возможности говорить правду. Что у него был сделан обыск и изъята рукопись и литографии подготовлявшейся им книги о Бабьем Яре. Что его побуждали выступить против С. и С., двух замечательных патриотов и пр. До сих пор, сказано в передаче, Некрасов не принадлежал к кругу диссидентов, и не делал никаких заявлений.
13.III. 74.
Вчера в 8 ч. “Г. А.” Передал отклик прессы на письмо Некрасова. В. Н. заявил, что ему было сказано, что он должен определиться – время сказать – по какую он сторону баррикад, предложено выступить против С. и С. Но пусть читатель лучше останется без моих книг, – я никогда не думал, что возможно включится в постыдную компанию клеветы против двух лучших людей России и т.д.
Страна останется без талантов (кроме писателей упомянуты ученые). Следователи КГБ не пишут книг. Кто же у нас останется?
Дальше шаткие сведения о Н.
“По обе стороны океана” очерк, подвергшийся критике за благожелательное отношение к Америке”.
В 69 г. опять опала за подпись под письмом отмечающим 29 годовщину Бабьего Яра.
Обыск в январе 74 по “делу 62”. Что за дело не объяснили. Все приходящие подвергались обыску. Конфискация рукописей.
23.III.74.
Вчера – как было условлено три дня назад, когда я говорил с ним, вернувшись из Переделкино по телефону – я ждал Вику и Галю.
С утра позвонил на квартиру, где он остановился, чтобы узнать, придут ли, и телефон не ответил и до середины дня не отвечал, а потом сняла трубку Наташа – жена Влада Заманского:
- Виктор Платонович сегодня утром вылетел в Киев.
- ?
- Да. Утром пришел милиционер и еще один в штатском, спросили, на каком основании живет без прописки и предложили немедленно выехать (или вылететь – как угодно) по месту жительства.
Подождали, пока соберутся и повезли в аэропорт и сопроводили до самолета.
Страница из дневника И. Крамова
Фрагмент протокола обыска, январь 1974 г. Источник: nekrassov-viktor.com
Фрагмент протокола обыска, январь 1974 г. Источник: nekrassov-viktor.com
Так Н. Штемпель и осталась без стихов Мандельштама
17 апр. 74. Ялта.
13 апреля – Наталья Евгеньевна Штемпель. Встретил ее в метро, пошли домой, ко мне – быстро, несмотря на ее хромоту, какую тут же и перестаешь замечать от странной естественности и даже пленительности ее походки, не только ничего не отнимающей от ее женственности, но и прибавляющей.
Разговор.
Перед отъездом из Воронежа О. Э. попросил Надежду Яковлевну записать стихи, которые он сам никогда не записывал для себя – помнил наизусть. О. Э. диктовал – писала Н. Яковлевна. Он подходил, ставил под каждым стихотворением число и год. Получилось три блокнота (с синей обложкой). Про них О. Э. говорил: “Наташина книга”. Оставил их Н. Штемпель. Это и есть то, что называется теперь “Воронежские тетради”.
После смерти О. Э. – Надежда Яковлевна отдала Штемпель письма О. Э. к ней, к родным: боялась держать их у себя. Это сейчас III том англ. издания. Еще были у Н. Е. стихи М., которые он сам переписал для нее – на отдельных кусках ватмановской бумаги и письма М. к ней, которые она никогда не имела терпения прочитать до конца (почерк плохой).
Вот эти письма от него – потерялись, она и не особенно их хранила и не взяла, когда уезжала из В.
Воспоминаем написанное Надеждой Яковлевной на подаренной его книге “Разговор о Данте” – “Милой (или дорогой) Наташе, единственному светлому пятну в трудную и счастливую зиму 1936-37 г. в Воронеже.”
– Да, счастливая – потому что стихи шли потоком.
Мандельштам прибегал к Н. Е. на работу – вход по пропускам, но он как-то прорывался, и читал вновь написанные стихи.
Сборник стихов Мандельштама мог попасть в Воронеж только “для распределения”, но не в магазине.
В янв. 74 г. Немировский, писатель, проф. университета, пошел с Н. Е. к зав. книготоргом Завгороднему. Тот нехотя принял их.
Немировский:
– Если в Воронеже будет хоть один экземпляр книги Мандельштама, его должна получить эта женщина (на Штемпель).
– У меня будет семь экземпляров. Их получат – Завгородний загибает пальцы – секретарь обкома, секретарь горкома, предоблисполкома… Насчитал семь человек.
“Булгаков” – говорит Завгородний, – тоже так распределялся.
Так Н. Штемпель и осталась без стихов Мандельштама.
13 апреля – Наталья Евгеньевна Штемпель. Встретил ее в метро, пошли домой, ко мне – быстро, несмотря на ее хромоту, какую тут же и перестаешь замечать от странной естественности и даже пленительности ее походки, не только ничего не отнимающей от ее женственности, но и прибавляющей.
Разговор.
Перед отъездом из Воронежа О. Э. попросил Надежду Яковлевну записать стихи, которые он сам никогда не записывал для себя – помнил наизусть. О. Э. диктовал – писала Н. Яковлевна. Он подходил, ставил под каждым стихотворением число и год. Получилось три блокнота (с синей обложкой). Про них О. Э. говорил: “Наташина книга”. Оставил их Н. Штемпель. Это и есть то, что называется теперь “Воронежские тетради”.
После смерти О. Э. – Надежда Яковлевна отдала Штемпель письма О. Э. к ней, к родным: боялась держать их у себя. Это сейчас III том англ. издания. Еще были у Н. Е. стихи М., которые он сам переписал для нее – на отдельных кусках ватмановской бумаги и письма М. к ней, которые она никогда не имела терпения прочитать до конца (почерк плохой).
Вот эти письма от него – потерялись, она и не особенно их хранила и не взяла, когда уезжала из В.
Воспоминаем написанное Надеждой Яковлевной на подаренной его книге “Разговор о Данте” – “Милой (или дорогой) Наташе, единственному светлому пятну в трудную и счастливую зиму 1936-37 г. в Воронеже.”
– Да, счастливая – потому что стихи шли потоком.
Мандельштам прибегал к Н. Е. на работу – вход по пропускам, но он как-то прорывался, и читал вновь написанные стихи.
Сборник стихов Мандельштама мог попасть в Воронеж только “для распределения”, но не в магазине.
В янв. 74 г. Немировский, писатель, проф. университета, пошел с Н. Е. к зав. книготоргом Завгороднему. Тот нехотя принял их.
Немировский:
– Если в Воронеже будет хоть один экземпляр книги Мандельштама, его должна получить эта женщина (на Штемпель).
– У меня будет семь экземпляров. Их получат – Завгородний загибает пальцы – секретарь обкома, секретарь горкома, предоблисполкома… Насчитал семь человек.
“Булгаков” – говорит Завгородний, – тоже так распределялся.
Так Н. Штемпель и осталась без стихов Мандельштама.
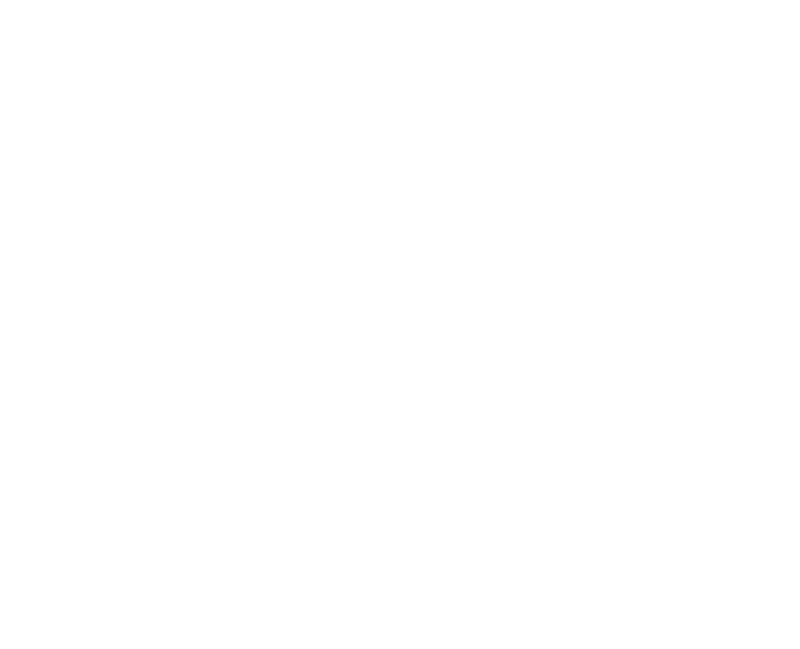
Осип и Надежда Мандельштам с Н. Е. Штемпель и М. В. Ярцевой. Воронеж, 1937 г.
Источник: itexts.net
Источник: itexts.net
– Ненавижу свою квартиру, по которой ходили эти люди, ненавижу этот красавец-город
18 мая.
Несколько дней назад, 13-го – пришел Вика.
Обедал, спал после обеда, просидел несколько часов.
Грустный, негромкий.
– Ненавижу свою квартиру, по которой ходили эти люди, ненавижу этот красавец-город.
Так – впервые, – с такой окончательностью и ясностью.
Получил вызов от дяди из Швейцарии на 3 месяца и из И. на имя Гали.
Собирается уезжать.
В Киеве, в подземном переходе – он шел с товарищем (отмечали Пасху), слегка совсем под хмельком (бутылка на четверых), и отвели в вытрезвитель. Недалеко стоял “воронок.” Товарища отпустили. Шли за ним. Провел там ночь.
В Москве встретил на аэродроме Хуциев – со своей машиной. По дороге в “Пекин”, где был забронирован номер, машину остановили: потребовали права. Потом: - Кто тут Некрасов? Отвезли в милицию. Двум спутникам (Хуциев, Войнович) предложили уйти. Те отказались. В. позвонил корреспонденту, тот немедленно приехал. Через полтора часа отпустили всех: приносим извинения, произошла ошибка – сегодня машина сбила девочку – похожая на вашу (Хуциева). Задержали для проверки…
Рассказывает некоторые подробности январского обыска.
И. В. (его приятель – физик), узнав, что у него идет обыск, решил собрать людей, чтобы что-то “продемонстрировать”, прийдя к Некрасову. Но удалось собрать одного Гелия Снергирева. Пошли вдвоем. Их задержали и тут же к Г. Снегиреву отправились на дом с обыском (И. В. сказал, что если пойдете с обыском, сегодня же сообщу зарубеж и пр. – от него отстали).
У Г. Снегирева нашли дома известное письмо Раскольникова о С. Этого оказалось достаточно, чтобы исключить его из партии (еще за связь с Некрасовым). Теперь он пишет объяснения, ходит к Н., показывает, что пишет (не знал, не имел или еще что-то в этом роде).
Н. впервые говорит:
– Люди из-за меня пострадали.
Несколько дней назад, 13-го – пришел Вика.
Обедал, спал после обеда, просидел несколько часов.
Грустный, негромкий.
– Ненавижу свою квартиру, по которой ходили эти люди, ненавижу этот красавец-город.
Так – впервые, – с такой окончательностью и ясностью.
Получил вызов от дяди из Швейцарии на 3 месяца и из И. на имя Гали.
Собирается уезжать.
В Киеве, в подземном переходе – он шел с товарищем (отмечали Пасху), слегка совсем под хмельком (бутылка на четверых), и отвели в вытрезвитель. Недалеко стоял “воронок.” Товарища отпустили. Шли за ним. Провел там ночь.
В Москве встретил на аэродроме Хуциев – со своей машиной. По дороге в “Пекин”, где был забронирован номер, машину остановили: потребовали права. Потом: - Кто тут Некрасов? Отвезли в милицию. Двум спутникам (Хуциев, Войнович) предложили уйти. Те отказались. В. позвонил корреспонденту, тот немедленно приехал. Через полтора часа отпустили всех: приносим извинения, произошла ошибка – сегодня машина сбила девочку – похожая на вашу (Хуциева). Задержали для проверки…
Рассказывает некоторые подробности январского обыска.
И. В. (его приятель – физик), узнав, что у него идет обыск, решил собрать людей, чтобы что-то “продемонстрировать”, прийдя к Некрасову. Но удалось собрать одного Гелия Снергирева. Пошли вдвоем. Их задержали и тут же к Г. Снегиреву отправились на дом с обыском (И. В. сказал, что если пойдете с обыском, сегодня же сообщу зарубеж и пр. – от него отстали).
У Г. Снегирева нашли дома известное письмо Раскольникова о С. Этого оказалось достаточно, чтобы исключить его из партии (еще за связь с Некрасовым). Теперь он пишет объяснения, ходит к Н., показывает, что пишет (не знал, не имел или еще что-то в этом роде).
Н. впервые говорит:
– Люди из-за меня пострадали.
Марлен Хуциев, неизвестная, Виктор Некрасов. Источник: nekrassov-viktor.com
Виктор Некрасов, Илья Гольденфельд, Гелий Снегирев, Киев, 1974.
Фотография Виктора Кондырева
Виктор Некрасов, Илья Гольденфельд, Гелий Снегирев, Киев, 1974.
Фотография Виктора Кондырева
Какое-то глубочайшее поражение сознания не вынесшего этого испытания, этой травмы – все перенес: Колыму, шахты, черный кошмар в лагере.
Этого – не вынес
Этого – не вынес
23 мая 74.
Сегодняшняя встреча с В. Т. Шаламовым – впечатление доживания, отмирания прошлого, недавнего, страшного в своей правде.
Он заикается – его трудно понять – и говорит, говорит, не останавливаясь, какая-то непреодолимая потребность выговаривать – что? Все грузное и тяжелое, пожалуй сумасшедшее.
Да, – он “тронулся”, сошел с ума. Первое, что говорит мне – это о моем письме (я писал ему о его книжке стихов, которую он подарил мне), не принимает – кажется ему ошибкой – что я пишу о его противостоянии (я писал о его человеческой стойкости). Никакого противостояния нет, и что-то глухое, непонятное дальше – о редакторе, о том, что никакого сопротивления ему не приходится оказывать – сначала я воспринимаю это, как ужасающий своей внезапностью страх (вбили страх). Но – это глубже, это в системе – сумасшедшей системе.
Пастернак должен был влепить оплеуху корреспонденту (всем этим Би-би-си-хуй-соси), “тогда бы очистился”, и все было бы хорошо (это в сумасшедшем словоизвержении). Его поздняя проза (“Живаго”) – ошибка. Его ранние стихи были отрицанием мира (“Сестра моя жизнь”). Поздние – не то (тут мелькает какая-то истинная мысль).
Твардовский – реакционный поэт, задерживающий развитие русской поэзии.
Об Анне Ахматовой он бы написал, чтобы показать, что она нуждается в переосмыслении, место ее в поэзии не определено.
Межиров – лучший современный поэт.
“Новый мир – оппозиция справа, бухаринского толка.
Лучше уж Кочетов и Софронов, посколько видно и понятно, что это – плохие поэты. Роль “Нового мира”, считавшего, что он представляет традицию интеллигентности – вредоносная (почему – это трудно у него понять).
В частности потому (так объясняет), что печатает, например, Бёлля – а это немецкий меньшевик.
Пастернак правильно понимал, что у нас – много дряни, но там (на Западе) – еще больше, но не хватило сил отрешиться (залепить оплеуху).
Во всем этом – слышится ужас пережитого, его письмо с “оплеухой” тем, кто печатал его Колымские рассказы.
Какое-то глубочайшее поражение сознания не вынесшего этого испытания, этой травмы – все перенес: Колыму, шахты, черный кошмар в лагере. Этого – не вынес.
Я ему говорю на прощание, что услышал от него много неожиданного.
Прощаюсь с грустью в душе.
Сегодняшняя встреча с В. Т. Шаламовым – впечатление доживания, отмирания прошлого, недавнего, страшного в своей правде.
Он заикается – его трудно понять – и говорит, говорит, не останавливаясь, какая-то непреодолимая потребность выговаривать – что? Все грузное и тяжелое, пожалуй сумасшедшее.
Да, – он “тронулся”, сошел с ума. Первое, что говорит мне – это о моем письме (я писал ему о его книжке стихов, которую он подарил мне), не принимает – кажется ему ошибкой – что я пишу о его противостоянии (я писал о его человеческой стойкости). Никакого противостояния нет, и что-то глухое, непонятное дальше – о редакторе, о том, что никакого сопротивления ему не приходится оказывать – сначала я воспринимаю это, как ужасающий своей внезапностью страх (вбили страх). Но – это глубже, это в системе – сумасшедшей системе.
Пастернак должен был влепить оплеуху корреспонденту (всем этим Би-би-си-хуй-соси), “тогда бы очистился”, и все было бы хорошо (это в сумасшедшем словоизвержении). Его поздняя проза (“Живаго”) – ошибка. Его ранние стихи были отрицанием мира (“Сестра моя жизнь”). Поздние – не то (тут мелькает какая-то истинная мысль).
Твардовский – реакционный поэт, задерживающий развитие русской поэзии.
Об Анне Ахматовой он бы написал, чтобы показать, что она нуждается в переосмыслении, место ее в поэзии не определено.
Межиров – лучший современный поэт.
“Новый мир – оппозиция справа, бухаринского толка.
Лучше уж Кочетов и Софронов, посколько видно и понятно, что это – плохие поэты. Роль “Нового мира”, считавшего, что он представляет традицию интеллигентности – вредоносная (почему – это трудно у него понять).
В частности потому (так объясняет), что печатает, например, Бёлля – а это немецкий меньшевик.
Пастернак правильно понимал, что у нас – много дряни, но там (на Западе) – еще больше, но не хватило сил отрешиться (залепить оплеуху).
Во всем этом – слышится ужас пережитого, его письмо с “оплеухой” тем, кто печатал его Колымские рассказы.
Какое-то глубочайшее поражение сознания не вынесшего этого испытания, этой травмы – все перенес: Колыму, шахты, черный кошмар в лагере. Этого – не вынес.
Я ему говорю на прощание, что услышал от него много неожиданного.
Прощаюсь с грустью в душе.
Черновик письма И. Крамова В. Шаламову. Из личного архива О. П. Коган
Варлам Шаламов. Источник: Радио Свобода
Варлам Шаламов. Источник: Радио Свобода
31 мая 74.
27 мая – перевыборы правления Московского отл. СП.
С 10 утра – гудящий ЦДЛ. Скука зала – при докладе Наровчатова – чиновничье-скучном и сером, без мыслей, но и без политиканских крайностей.
Мельком – Булат, Мих. Алекс. Вознесенский, Аксенов.
Сима Лунгин: Виктора исключили из Союза кинематографистов.
Доклад Ильина.
Сообщение об исключении из Союза писателей Чуковской, Войновича.
Сидящий рядом (кажется, Б. Дьяков) говорит мне:
– Почему зал не аплодирует, никакой реакции. Лет двадцать назад и за половину такого – сажали.
– Не стоит тосковать по тем временам.
– Нет, конечно, но надо благодарными быть …
Сам не аплодирует, не поднимает руку, когда приглашают голосовать, сидит истуканом.
27 мая – перевыборы правления Московского отл. СП.
С 10 утра – гудящий ЦДЛ. Скука зала – при докладе Наровчатова – чиновничье-скучном и сером, без мыслей, но и без политиканских крайностей.
Мельком – Булат, Мих. Алекс. Вознесенский, Аксенов.
Сима Лунгин: Виктора исключили из Союза кинематографистов.
Доклад Ильина.
Сообщение об исключении из Союза писателей Чуковской, Войновича.
Сидящий рядом (кажется, Б. Дьяков) говорит мне:
– Почему зал не аплодирует, никакой реакции. Лет двадцать назад и за половину такого – сажали.
– Не стоит тосковать по тем временам.
– Нет, конечно, но надо благодарными быть …
Сам не аплодирует, не поднимает руку, когда приглашают голосовать, сидит истуканом.
Об исключении из Союза писателей Владимира Войновича (единогласно) Источник: twitter.com/Svkolosova
Обложка книжки Л. Чуковской. Paris: YMCA-Press, 1979. Источник: solzhenitsyn.ru
Обложка книжки Л. Чуковской. Paris: YMCA-Press, 1979. Источник: solzhenitsyn.ru
Материалы опубликованны с разрешения Ольги Павловны Коган.
Не для коммерческого использования.
Дизайн и верстка, подготовка материалов:
Ирина Шанаурина shanaurina@gmail.com
Дизайн и верстка, подготовка материалов:
Ирина Шанаурина shanaurina@gmail.com
